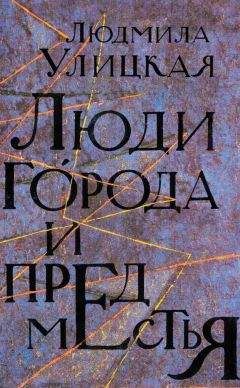Я посидела и снова стала спускаться. По левую руку шла огромная стена, вся иссеченная линиями и исписанная таинственными знаками. Я несколько раз останавливалась, потому что мне хотелось запомнить поточнее это великолепное и значительное зрелище. Хотелось бы даже зарисовать…
Потом стена оборвалась, пошли скалы, обрывы, горочки-пригорочки, но всё это было уже не таинственным и грозным, а скорее приватным, монастырским. Как будто кончались угодья Моисеевы и начинались владения монастыря. И вот он уже завиднелся, простые коробочки строений, небольшой сад, возделываемый с шестого века монахами, монастырская гостиница и уборные, к которым ночью выстроились тысячи страждущих, и стоянка с автобусами. И никаких туристов, одни бедуины с верблюдами, исполнившие свои труды…
Паломники еще тянулись по длинной дороге, а меня ждала награда — монастырь еще не закрылся. В нем шла служба. Древние иконы большой простоты и подлинности висели в притворе, а внутри стояла рака с ручкой святой Екатерины. Сушеная темно-коричневая ручка в перстнях видна была под стеклом, ее было жалко, бедную эту ручку, отсеченную от тела и выставленную на обозрение. Целовать мне ее не хотелось, хотелось в землю закопать…
Во внутреннем дворике стоял куст — неопалимая купина. Он стоял как бы на возвышении, и когда я подошла к нему, маленький листик свалился мне на голову.
Растение этого вида не встречается нигде в мире — написано в путеводителе. Я готова поверить. Я всегда готова поверить, кроме тех случаев, когда совсем не могу. Ну, как с сушеной ручкой. Не могу я поклоняться кусочку высохшей материи, даже если она когда-то принадлежала святой Екатерине. Не такая уж я материалистка…
Потом служба закончилась, монастырская церковь закрылась, и тут как раз на склоне показалась голова паломнической змеи, она медленно стекала с горы к автобусной стоянке. Все расселись по автобусам. Роза с Аленой за время пути поссорились, и Роза отсела от Алены на другое место.
Мы вернулись в «Парадиз» к обеду. Я пошла спать. Заснула с наслаждением, под легкое журчание кондиционера. Засыпая, я всё ловила хвост какой-то очень важной мысли, которая потом очень весомо и полно присутствовала во сне. Когда я проснулась, опять не смогла уловить этой важной мысли, но она витала где-то неподалеку, обещая вот-вот вернуться. Я посидела в лоджии, немного почитала Даррела, потом пошла ужинать.
Евангелистки мне не попались на пути, и я почти обрадовалась. Когда стемнело, я пошла искупаться. Из-за непрекращающегося ветра отдыхающие купались в райских бассейнах. На море не было ни души, и даже спасатели куда-то отчалили. И я поплавала хорошо, вдали от рыбьей мельтешни. И все время куда-то тянулась ниточка: вспомни, что-то было важное.
Я легла спать, но теперь-то стало ясно, что я обгорела, спускаясь с Синая. Было не больно, а просто кожу тянуло и жгло, и даже было приятно, потому что этот ожог был одновременно и лечением. Экзема моя прошла.
Опять я спала с неразрешенной загадкой, которая даже во сне приятно волновала. Утром я вышла на лоджию и подставила под солнце обожженные ноги. Это было глупо, но день был последний, и до следующего солнца еще надо было дожить. Я лежала, закрыв глаза, и гранитная стена Синая стояла у меня перед глазами. Я открыла глаза и снова закрыла, а она всё стояла, пока я не догадалась: это и есть скрижали Завета. Как будто пелена упала, и я поняла, поняла, что делал там Моисей сорок дней — смотрел на эти наскальные письмена, смотрел слезящимися глазами сорок дней, до тех пор, пока не открылся ему смысл этих тайных знаков, начертанных Божьей рукой или природой — дождями, ветрами и резкой сменой температур. Да все равно, чем Господу было угодно орудовать: всё, что есть в мире, — его инструмент. И Моисей, и простодушная Роза с ее сомнительными голосами. Может, даже и я, неочистившаяся.
В общем, я считаю, что я сделала библейское открытие: скрижали Моисеевы записаны на скале, Моисей их расшифровал. Что же касается Шарм-эль-Шейха, то он всего лишь грубо намалеванный шарлатанами задник.
В Москве, несмотря на середину апреля, было холодно, сыро и темно. Но египетское солнце надо мной хорошо поработало — кожа стала как новенькая, и прекратился зимний озноб в позвоночнике, который я ощущаю уже много лет. Недели через две позвонила приятно-невзрачная Алена из Шарм-эль-Шейха, сказала, что Роза очень страдает из-за голосов и просит меня найти ей такого психиатра, чтобы был верующий… К неверующему она ни за что не пойдет. У меня такой знакомый есть — молодой человек по имени Сережа, — и верующий, и психиатр, и денег не берет. Я ее к нему послала.
А мне-то кому позвонить…
В печальном городе Варшаве, дотла разрушенном и выстроенном заново, есть одно место — парк Лазенки, любимое место варшавян, сохранившее дух прежнего времени: игрушечный дворец Понятовского, оранжерея, пруд, старые деревья. Их не так много, но они и есть последние свидетели Королевства Польского.
Возле выхода из парка стоял продавец больших надувных игрушек, и среди висящих в воздухе над головой продавца была белая, в черных пятнах собака, к которой я сразу же устремилась: эта собака должна была стать моей. Вернее, не моей, а собакой моего внука. Я уплатила деньги, и продавец отвязал мне мое животное. Я попросила выпустить из нее воздух — назавтра я улетала в Москву, и собака в сложенном виде заняла бы скромное место в чемодане. Но оказалось, что собака эта разового пользования — надутая газом гелием, она может выпустить его из себя один-единственный раз, после чего превращается в плоскую черно-белую тряпочку, ни на что не годную.
«Ладно, довезу», — решила я и отправилась под мелким дождичком на какое-то официальное мероприятие. Бодрая моя собачка рвалась с моей руки в невысокую высь и, засунутая в такси, билась то головой, то пятнистой спиной о крышу машины изнутри. Таксист остановился там, где начиналась пешеходная зона. Собака первой выпрыгнула из такси и рванула вверх — я ее придержала. Навстречу мне шла знакомая переводчица, она помахала мне рукой. Скорее, не мне, а собаке.
Собаку я сдала в гардероб вместе с курткой.
— Присмотрите за ней? — спросила у гардеробщицы. Та закивала, улыбаясь, и ответила что-то по-польски, уже поглаживая черно-белую голову…
Далее проистекало мероприятие: обычная небольшая выпивка, перемежаемая тостами. Подошла та знакомая переводчица, которую мы встретили на улице:
— А где ваша собака?
Стоявший рядом писатель — русский писатель, из самых моих любимых, — посмотрел в мою сторону с интересом и, пожалуй, с симпатией:
— Ты что, с собакой сюда приехала?
— Нет, я ее здесь купила.
— Да ты что? — изумился он. — Какую же?
— Далматинец, — ответила я правду. По-моему, он никогда еще не проявлял ко мне такого живого интереса.
— И ты что, оставила щенка в гардеробе?
— Конечно. А как я его сюда потащу — в толпу, в духоту. А там гардеробщица его окучивает…
В лице писателя — сомнения. Может, не стоило щенка оставлять у гардеробщицы?..
Всю ночь он провисел в воздухе, под потолком гостиничного номера, привязанный к ручке двери. Морда у него была не такая умная, как бывает у живых собак, но очень симпатичная.
Утром мы вместе с ним поехали в аэропорт. Приехало такси, он рвался в салон, но его поместили в багажник. В очереди на регистрацию я заметила одну мрачную писательницу — в обычной жизни столько писателей не встречается, но это была книжная ярмарка, и там концентрация повышена. Писательнице моя собака очень понравилась, это определенно, и она расцвела замечательной улыбкой:
— Не боитесь уронить честь российской литературы?
— Да я ее еще раньше уронила. — Это была правда, накануне я пролила черный кофе на белую скатерть на правительственном уровне.
Как это ни удивительно, собаку мою выпустили из страны: меня беспокоил газ, который в нее накачан, гелий — он не взрывается?
Все, глядя на нее, улыбались — такое было замечательное качество у этой собаки. В самолете я положила ее под голову, как подушку. Пес был жестковат, но поставленную перед ним задачу выполнил.
Он резво прыгал над моей головой всю дорогу и всех веселил. Наконец мы с собакой сели в метро. Окна вагона были открыты, и собака устремилась в окно: ее гелиевая начинка звала ее ввысь. Я дернула ее за веревочку и погрозила ей пальцем.
Вагон был воскресный, дневной, почти все сидели. Стояла только группа подростков. Собака привлекла их внимание. Не собака, а наша маленькая борьба с ней: как я ее оттаскиваю от открытого вверху окна, а она всё норовит туда выскочить — то головой вперед, то ногами, то задом. Ребята уже изошли от смеха, а я вела себя как настоящий клоун — с полной серьезностью.
И все люди улыбались, и я поняла, как же всем хочется немного поиграть и как редко люди себе это позволяют.