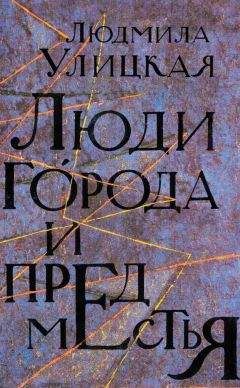И все люди улыбались, и я поняла, как же всем хочется немного поиграть и как редко люди себе это позволяют.
В общем, всем вагоном мы забавлялись как могли. Но когда поезд остановился на станции «Сокол», величественная старуха, что сидела напротив меня, встала во весь большой рост и провозгласила:
— Как вам не стыдно! Взрослый человек, а ведете себя как маленькая!
— Извините, пожалуйста! Простите ради бога! Я не заметила, что вам мешаю! — Я рассыпалась в извинениях, но старуха попалась несгибаемая: такую извинениями не возьмешь.
— Мне лично вы не мешаете! Но вы мешаете машинисту вести поезд!
Молодняк прыснул. Старуха вышла. Поезд тронулся, и собака моя снова устремилась в окно, по току воздуха.
— Как ты себя ведешь? Ты мешаешь машинисту! Пожалуйста, сядь на место, — просила я собаку, и она спускалась и тыкалась мордой мне в лицо.
А потом я вышла из вагона и поднялась на улицу. Кроме собаки, у меня был еще рюкзак и сумка. Пока я разбирала их перепутавшиеся лямки, меня разглядывали трое: пожилая женщина, молодая женщина и мальчик лет шести. Они были вполне симпатичные лица кавказской национальности. Старшая была в черном платье и в черном головном платке. Молодая подошла ко мне и спросила:
— Почем собака?
— Я не продаю. Я ее купила.
Мальчик смотрел на собаку с вожделением.
— Я купила ее маленькому мальчику, моему внуку, я не могу ее тебе отдать. — Это неприятный момент — отказывать ребенку.
— Где купила? — спросила женщина, которая мыслила конструктивно.
— В Варшаве, — жестоко ответила я.
— Как ехать? Метро какая остановка? — Она была настоящая мать, и никакие расстояния не казались ей слишком большими…
— Самолетом надо лететь.
Они отошли, разочарованные. Мать что-то говорила сыну на неведомом языке.
Последнюю шутку собака сыграла, когда мы входили в подъезд: она осталась снаружи, но железная дверь не перерубила веревочки, и на свободу она так и не улетела.
До моего внука собака добралась только через две недели: она в значительной степени утратила свои летные качества, вся немного сморщилась, шов на морде пошел мелкими сборочками. Но главного своего качества она не утратила до конца жизни: она всех веселила, пока не испустила свой гелиевый дух.
Я с детства верю в гадания, предсказания, тайные знаки и пророчества. И поскольку верю, тщательно избегаю всей этой мракобесной чепухи. Помню, мне было лет десять, я с мамой и маминой подругой Ниной — на курорте в городе Трускавце, куда маму отправили пить воду для поправки печени, а Нину — пить воду из соседнего колодца от бесплодия. Стоим в хорошеньком дворике, снятом у лютой западнянки, которая ненавидит нас по трем причинам: как курортников, как москалей и особенно как евреев. Нина, между прочим, была ни при чем, а я такая маленькая, что можно было бы иметь и снисхождение. Стоим во дворе, ждем Нину, которая всегда долго собиралась «на источник». И тут входит во дворик, весь его заполнив юбками, волосами, резким гортанным голосом, женщина в красном платке и с большими серьгами. Руки у нее заняты множеством вещей: шаль, платок, карты, книга. Большая белая книга в грязной обложке. Гадалка смотрит на маму довольно равнодушно, но тут появляется Нина, и она кидается к ней:
— Погадаю, красавица, погадаю. Всё знаю, что было, что будет… Что здесь, что здесь, — приложила руку к голове, потом к сердцу, а потом сделала непристойный жест, слегка расставив ноги, — и что здесь… — И засмеялась ужасным смехом.
— Цыганка, — прошептала я маме, ожидая подтверждения. Хотя я уже вышла из возраста, когда, известное дело, цыгане крадут детей, но все-таки…
Предполагаемая цыганка услышала мой задушенный шепот, повернулась:
— Не, не цыганка, сербиянка…
И продолжала, уставившись неподвижными глазами на Нину:
— Пей не пей, гуляй не гуляй, всё будет, чего задумала, а не по-твоему…
Цыганка-сербиянка держала Нинину чахлую руку в своей — большой, в крупных красных камнях, — вертела ее, как существующую в отдельности от Нины вещь, потом попросила одно из Нининых колец, маленькое, с белым камешком, и Нина молча сняла его и положила ей в руку.
— Девочку бы мне… дочку…
Сербиянка слизнула Нинино кольцо с ладони в широкогубый рот и раскрыла книгу. Букв в ней не было, одни только точечки. Гадалка пробежалась рукой по странице, задержала руку в каком-то месте, сверкнула на Нину недобрым глазом и сказала:
— Будет, будет, лучше б не было. Будет тебе, не надолго будет…
Глазастая Нина побелела.
Гадалка закрыла книгу, полностью потеряв интерес. Повернулась, чтобы уходить, и уже через плечо посмотрела на меня и крикнула моей маме:
— А у этой — два барашка!
Нина еще полечилась год-другой, а потом взяли они с мужем девочку в детском доме, растили со всем вниманием и любовью, как свою кровную, на музыку водили, на фигурные коньки, немецкому языку учили, как генеральскую дочь, но годам к тринадцати в девочке сказалась такая дикая и необузданная природа, что фигурные коньки не помогли, — начала она загуливать на день, другой, потом сбежала из дому на месяц. Ее вернули с милицией, а в четырнадцать она исчезла окончательно, забрав все материнские драгоценности и разбив ей сердце…
С барашками сербиянка тоже оказалась права: у меня их действительно двое, и уже довольно порядочные бараны. Забавно, что первое оповещение об их появлении на свете я получила из книги, написанной азбукой Брайля… Да и знала ли сербиянка, что гадает по книге для слепых?
Всякий раз, когда возле меня появлялась особа с картами, гороскопами или другими инструментами для заглядывания в будущее, я немедленно отступала: я хотела быть свободной и не зависеть от их сообщений, правдивых или обманных.
Прошло не меньше двадцати лет, и я снова попала в поле зрения гадалки, и снова случайно. Забежала к армянской подруге, чтобы забрать свою книгу, а у нее стол накрыт, пахнет горькими травами и пряностями, а сама Седа сияет восторженным светом:
— Ой, как хорошо, что ты пришла! Сейчас придет Маргарита! Это такой человек! Такой человек! К ней запись стоит, чтобы она одно слово сказала!
Оказалось, Маргарита рассказывает жизнь от рождения до смерти как нечего делать, с помощью одной маленькой тарелочки. Я сразу же схватилась за свою книжку и к двери, но Седа замахала руками, закричала на меня. Тут раздался звонок, и пришла эта самая Маргарита, совершенно незначительного вида, но в очень значительной шубе из какого-то редкостного зверя. Вошла деловито, как участковый врач во время эпидемии гриппа, поцеловала Седу, поприветствовала меня непривычным маханием маленьких рук и сразу же сказала:
— Седа! Скатерть сними!
— Марго, я тут всего наготовила, брат эхегнадзорского сыра привез…
— Убирай, убирай всё, стол очисти, — торопила Маргарита, и Седа сдернула скатерть с круглого обеденного стола. Марго вынула из сумки большой бумажный круг, на котором были написаны буквы алфавита.
— Тарелку маленькую дай, — приказала Марго, расстелив на столе свой алфавит.
Марго взяла в руки тарелку, маленькой рукой погладила, пробежала пальцами по ребру, постучала по ней, прислушиваясь, и сказала мне строго:
— Возьми карандаш и бумагу и записывай. Молчи и не переспрашивай, если чего не поймешь. Главное, не вздумай благодарить. Седа, ты объясни ей, как надо себя вести.
От такого приказного тона я впадаю в слабость и подчиняюсь. Седа сунула мне в руки карандаш, три листа бумаги и усадила на стул. Мы расселись вокруг стола. Марго держала тарелку на одной ладони, а второй поглаживала ее по спинке. Потом цирковым движением вытянула снизу левую руку, и тарелка как будто прилипла к правой, совершающей вращательные движения всё шире и шире. Потом тарелка отделилась от руки, но не вполне. Вращаясь по окружности стола, тарелка все время была в соприкосновении с пальцами.
Марго начала что-то говорить, но я так была заворожена видом порхающей тарелки, что не очень слушала, что она говорит. Тем более что говорила она очень тихо и с сильным акцентом, который до того совершенно отсутствовал.
Седа пихала меня под локоть, чтобы я писала. Я начала вслушиваться в довольно бессвязный поток слов. То, что она говорила о моих родителях, я пропустила, записывать начала со слов: «…из твоих мужчин первый, красный, ушел, но прощаться с ним ты будешь через два года, весной. Второй с бородой — отец твоих сыновей, он тебе не на всю жизнь, на десять лет. Уйдешь — не обернешься. Еще два года — полная перемена участи. Новое поприще. Не скажу точно, но связано с искусством. Новый мужчина. Сначала он тебе будет не по плечу, а потом ты — ему. Три года еще — и выигрыш. В декабре это будет. Но не лотерея, а вроде соревнования. Только не первый приз. Но для тебя это будет большой удачей. Большая карьера будет, хотя не государственная. Ну, министром не станешь, но будешь известный человек. С девяносто пятого года жизнь меняется. Дальше она связана с городом Новый Орлеан. Всё новое. Молодой мужчина. Новая семья. Чужая, но симпатичная. Они к тебе очень хорошо будут относиться. Ты там до самой смерти и проживешь. К старости мозгами повредишься. Но они к тебе очень хорошо относятся, вся эта семья…»