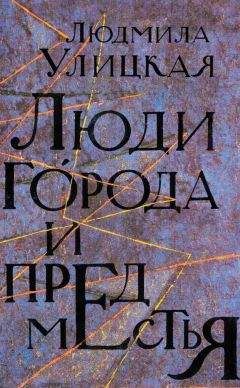Кстати, все кафе, рестораны, клубы и бары были битком набиты, хотя туристический сезон еще не начался, да и вечер еще только собирался. Влажная жара, которой славится Луизиана со своими болотами, крокодилами и ирригационными каналами, тоже еще не наступила. Даже какой-то ветерок, взвиваемый то ли музыкой, то ли кабацкими запахами, лениво тащился вдоль Бурбон-стрит. Мы бы уже и поели чего-нибудь, но свободных мест не было. Мы остановились возле вывески «У нас играет саксофонист Гэри Браун». Пока мы глазеем на вывеску, музыка смолкает. Народ выходит из заведения, а мы входим. У Гэри Брауна — перерыв. Мы садимся на освободившиеся места, заказываем местный напиток с ромом и сидим, тихо наслаждаясь. Мы медленно выпиваем сладко-коричневый алкоголь, потом заказываем еще «Маргариту».
— Здесь онтологический перерыв, — говорит наконец Лариса, и я прекрасно понимаю, что она имеет в виду.
— Ага, всегда.
В том смысле, что в других местах на земле люди работают, очень много работают, еще и еще, до смерти работают, а здесь — перерыв. Бармен наливает выпивку — лениво и доброжелательно, делает одолжение. Музыканты играют, потому что у них такое настроение — поиграть, а гадатели раскладывают свои снасти исключительно из любви к этому старинному занятию. Можете дать им денег, они их возьмут, но они здесь не работают, они так живут — в перерыве.
Музыканты немного поели и выпили, им снова захотелось поиграть, и они расселись: Гэри, лет тридцати пяти, лысый, светлокожий негр, немного полноватый и расслабленный, басист ямайского вида и улыбчивый худенький гитарист. Потом вылез азиатского вида клавишник и старый, совсем старый, перкуссионист. Он заменил другого, и все обрадовались, потому что он был какой-то совсем знаменитый и вообще-то не должен был сегодня играть, но шел мимо и захотел немного постучать… И они начали.
Бедные, бедные белые люди — недопеченные, недоделанные. Настоящие политкорректные американцы — белые, англосаксы и протестанты — говорили мне, что этого нельзя произносить: никогда нельзя хвалить черных за их музыку, потому что им это обидно. По той причине, что они не хуже белых и во всех прочих отношениях, и это обидно, тысячу раз обидно, когда все тащатся именно и только от их музыки. Не знаю, что в этом плохого. Они заиграли, и запели, и заплясали — чистая радость и восторг! Они так наяривали, что наши белые ленивые души подпрыгивали, и отрывались, и взлетали, и приплясывали, и сам Господь Бог радовался и, может, тоже приплясывал на небесах. И так было хорошо, что вылетели полностью из наших озабоченных голов все тяжкие думы, накопленные десятилетиями чтения умных книг, все проблемы отлетели как пыль, всё внутри пело вместе с Гэри Брауном и его замечательными ребятами.
Потом Гэри вытащил изо рта мундштук и крикнул:
— Танцуйте!
Но пока дело так далеко не зашло, чтобы вскочить и идти трясти нашими довольно престарелыми костями. И тут от двери через пустую танцевальную середину зала идет негритянской походкой, в которую танец вделан от рождения, здоровенный черный парень. Идет и уже как будто танцует. И подходит он ко мне и приглашает танцевать.
Мы с Ларисой долго соображаем — что это он хочет? Танцевать — наконец соображаем мы, и Лариса шевелит губами:
— По-моему, он тебя приглашает танцевать.
— Я не говорю по-английски, — испуганно произношу я.
— А по-французски? — улыбается парень.
— Нет, нет, по-французски я особенно не говорю, — я почти в столбняке.
— В конце концов, я же приглашаю вас танцевать, а не разговаривать, — смеется парень, и я иду.
Мы первые, мы единственные на танцевальном пятачке, на нас все смотрят. Я замечаю двух теток из числа Ларисиных шоу-компаньонов. Они потрясены не меньше моего. Я качнулась на месте, испробовала свои ноги, потрясла руками, сбросила с тела что-то лишнее, и пошло…
В молодости я любила танцевать, начиная от буги-вуги до рок-н-ролла. Тогда в эти танцы вкладывалась вся страсть к свободе, и весь протест против советской тухлятины, и отчаяние, и злость, и ярость. И тело мое всё вспомнило — как будто проснулось. Черный парень был бесподобный танцор, он меня кидал и ловил, а я не промахивалась, всем телом попадая куда надо. Лет двадцать я не танцевала. Мне кажется, так классно я вообще никогда не танцевала, даже и в молодости. Потом вылезли еще какие-то пары, но — как будто никого вокруг не было, все расступались и нисколько не мешали, присутствовали где-то на периферии. Потом наступила другая музыка, что-то тангообразное, но «слоу, очень слоу», и мы уже плыли по другой реке и даже разговаривали. Он спросил, где я живу. Я ответила — в Москве. Он танцевал как бог, я бы танцевала с ним всегда, в медленном объятии, полном и совершенном. Он спросил меня, не хочу ли я остаться в Новом Орлеане.
— Не знаю, хочу ли я остаться в Новом Орлеане, но я хочу танцевать с тобой.
— Так мы танцуем, — засмеялся он.
Он был такой красивый и такой молодой. Тут музыка кончилась, и он отвел меня к моему столику. Сел на свободный стул.
— Я предлагаю вашей подруге остаться в Новом Орлеане, а она колеблется.
Глаза у Ларисы, и вообще большие, стали как два пасхальных яйца Фаберже голубого цвета.
К этому времени я уже немного очухалась.
— Нет. Я не могу. Я живу в Москве, — сказала я с сожалением.
— Хотите, я поеду с вами в Mocкву? — спросил он.
Ларисины глаза уже не могли стать больше, они вылупились до предела.
— У меня в Москве муж, — призналась я.
— Жалко, — сказал парень. — Ты мне понравилась. А, может, останешься в Новом Орлеане?
— Нет, — вздохнула я, и мы расстались навеки.
Лариса обещала выдать мне справку, что жизнь моя могла измениться, что предложение мне было сделано на ее глазах и свой шанс я упустила. Она мне объяснила также, что происшествие это совершенно неправдоподобно, потому что Нью-Орлеан — расистский город, это не Нью-Йорк и не Калифорния, где черный мужчина легко может пригласить танцевать незнакомую белую женщину. Здесь это совершенно не принято. Еще она призналась, что всегда считала, что я, рассказывая свои истории, немного привираю, закругляю сюжеты и сообщаю им законченность, которой они в реальности не обладали. А теперь верит, что я не вру.
На следующий день, когда открылось Ларисино шоу, к ней подошли две ее коллеги, и одна тихонько спросила: а правда, что вашей подруге вчерашний черный парень предложил остаться?
«Правда», — с гордостью ответила Лариса.
Это был день моей женской славы.
Забыла сказать: книжечка, в которой затерялись на несколько лет армянские предсказания, называлась «История шевалье Де Грие и Манон Леско».
Привет тебе, дорогая Лариса!
Собирались мы наскоро, но традиций не нарушали: водка, селедка, хлеб. Последнее немаловажно — в деревне, куда мы ехали, магазина давно уже не держали. Если говорить вполне откровенно, продуктов набрался полный рюкзак.
Число на дворе было тридцатое декабря. Крайний день. Билеты на Савеловском вокзале нам продали, хотя очередь стояла изрядная. Вскоре выяснилось, что билеты продали всем желающим, которых было вдвое больше, чем посадочных мест. На перроне происходило нечто ностальгическое — не то война, эвакуация с последующей бомбежкой, не то съемка фильма из тех же лет. В спутниках моих проснулась неутраченная сноровка военного детства, и мы довольно ловко вперлись в переполненный вагон. И поехали на север…
Вагон общий. Народ постепенно утрясается. Дураки плотненько сидят на лавках, умные уже растянулись на верхних полках. А мы стоим в проходе. Пока что тесно и холодно, но скоро будет жарко и душно, к этому времени умные и дураки сравняются в одном — все будут пьяными. Процесс, собственно говоря, пошел сразу же, как только поезд тронулся. Все вынули. Не спрашивайте что. Вот именно. Бутылки. Все, кроме нас. Не потому, что у нас не было. А потому, что начался такой народный театр, что невозможно было оторваться от зрелища этой натуральной жизни в железнодорожных декорациях…
Первым явлением была проводница. Рубенсовская модель с лицом подвыпившей матрешки. Сильная, крепкая. От пьянства еще не развалилась, только перед обвис, как у коровы. Голос властный, веселый, хамства не допустит, если надо, сама так обхамит, что и милиционер покраснеет. Понимает, что билетов продано вдвое больше, чем мест, но ситуацией владеет полностью: кого направо, кого налево, бабу с дитем усадила, солдатиков-отпускников с мест подняла — погодите малек, ребятки, и вас пристрою… Но солдатики торопятся — им ехать всего восемь часов, а за это время надо успеть захорошеть, и проспаться, и снова захорошеть. Но они в надежных руках, в отпуск их везет солдатская мать, медведица. Ее сын Колька да двое землячков — Вовка и Серега…