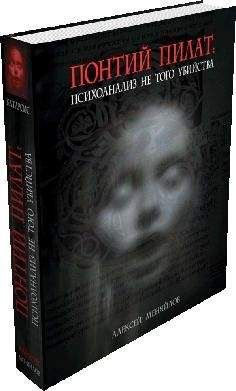Богословы говорят, что воины могли обрядить Христа только в подручный материал — армейский кроваво-красный плащ. Он, дескать, похож на царский (древних римских царей! — А.М.), вкупе с «тростью» — полный антураж царя.
Жаль только не добавляют, что для того, чтобы кроваво-красный армейский плащ мог в глазах римского сотника стать царским одеянием, его надо было завязать не как армейский плащ, а на манертрабеи.
Вообще говоря, трабеи были только трёх типов и отличались только цветом (см. Жреческие коллегии в Раннем Риме. М.: Наука, 2001. С. 90).
Трабеи пурпурного цвета носили только жрецы (различных коллегий, кроме авгуров).
Пурпурные с чем-либо белым (полосой, белым полем) носили цари.
Пурпурно-алые (ближе к цвету кроваво-красного армейского плаща) носили авгуры.
Но на Христа была накинута «багряница»! Да и сомнительно, чтобы кто либо в претории решился ходить в царском одеянии.
Пурпурно-алые трабеи могли носить не только авгуры, но и цари — но только те из них, кто был кооптирован в авгурскую коллегию. Положение авгура выше положения царя — потому и такая трабея.
Значит, Иисус в «багрянице» был не столько царём, сколько авгуром?
Это меняет дело.
Авгуры рукополагали на царство. Происходило это следующим образом: претендент на царство преклонял колена, авгур возлагал ему на голову руку, затем специальным жезлом (lituus) разделял небосвод на две части — если первая появившаяся птица оказывалась в правой половине, это считалось благоприятным знамением от богов.
Священный жезл авгура был изогнут, но, несмотря на это, у древних он ассоциировался с… копьём! Объяснений тому, видимо, можно найти немало. А может, всё проще простого: священный жезл по форме больше всего напоминал фаллос.
Итак, кого увидел Пилат — а он после первой беседы со Христом уже не мог не задуматься особенным образом, — когда со двора претории ввели Иисуса?
Почему Провидение, да и Сам всесильный Христос допустили именно такое над Ним надругательство? Так ли уж ради исполнения пророчеств? Чтобы в веках умилялись элементы иерархий?
А вот «пилат»-Толстой весьма отрицательно относился к чудесам (как основанию для веры) и тем от животно ненавидящей его православной массы отличался. И Лев Николаевич не единственный такой «пилат».
Иисус с теми, с кем говорить было бесполезно, не только не разговаривал, но и тем более не допускал никакого дополнительного над Истиной надругательства. Из одного только этого следует, что «багряница» была символом для кого-то из спасаемых, с кем не только можно было «заговорить», лишь проникнув в преторию, но и кто по меньшей мере подсознательно отождествлял себя с копьеносцем …
На него и указывает «любимый ученик Иисуса», ещё в первой молодости отличавшийся от остальных апостолов мужеством. Так и написано: на второй раунд беседы к Пилату вошёл Копьеносец.
Только Иоанн, кстати, пишет и о беседе Иисуса с Нафанаилом — который, среди прочего, был покорён тем, что Иисус знал о нём самое сокровенное. Пожалуй что и тайное. То же самое можно сказать и о Пилате. Ведь не всякому признаешься, что в сумерках, удалив всех часовых и прислугу, ты выходишь в колоннаду Иродового дворца торжественной поступью жреца и простираешь к небосводу свою крепкую руку…
Когда я узнал про виды трабей, первым моим движением было переодеть Пилата. Но отчётливое ощущение, что всё это идёт только от логики, остановило. В самом деле: если уж «императрица» изымала из коллекции мужа к`опья, то уж тем более на половине правителя было не сыскать не то что трабеи, но даже и обычного кроваво-красного армейского плаща…
И ещё одна деталь. Должность префекта подразумевала присутствие двух уполномоченных Римом авгуров. Сопровождали ли эти доносчики семью префекта в их поездке в Иерусалим на Пасху, или они остались в Кесарии?
А если сопровождали, то должны были свою ненависть к Истине каким-то образом проявить.
Так, может быть, «багряница» Иисуса была вовсе не армейским плащом, а трабеей авгура?
А «трость» вовсе не подобранной во дворе претории кривой веткой, а изогнутым жезлом?
глава тридцать восьмая
«Не малодушествуй в молитве своей…» (Сир. 7:10)[4]
Чудес в моей жизни было предостаточно. Особенно яркие из них бывали дарованы после молитвы, непременно коленопреклонённой, когда я, разбираясь в смысле происходящего, не только с Богом беседовал (беседовать лучше во время прогулки по пустынному парку), — но и просил. И вот эта-то общепринятая в молитве интонация прошения всегда казалась мне подозрительной. Зачем Бога просить, если Он и так знает, в чём я, действительно, нуждаюсь? К тому же Он, отражённый в Сыне, явно не властелин, это они жаждут, чтобы все унижались…
Да, чудес было предостаточно. В сущности, все мои книги, и те, которые уже опубликованы, и те, которые ещё только в ящике стола или только задуманы, в каком-то смысле посвящены только одному — чудесам, которыми Бог изменял мою жизнь.
Что поразительно: первая моя на эту тему книга (неопубликованная) посвящена тому, как я стал писателем! Да-да, ни больше и ни меньше! Такого сверхнахальства история мировой литературы, наверно, ещё не знала.
Ещё бы! Воспоминание о «пути писателя» в принципе возможно только после издания собрания сочинений, в крайнем случае «воспоминания» могут быть второй книгой, а тут первая! Разве не сверхнахальство?
Начал я писать чуть больше семи лет назад*.
* Сейчас — в 2002 г. — уже двенадцать. (А.М.)
И началось всё именно с коленопреклонения.
Прежде всего, я всерьёз задумался: раз каждый обращённый к Богу непременно получает от Него особенный дар, путь реализации которого Господь будет благословлять как-то особенно, то соответствует ли моя до сих пор деятельность этому дару? Иными словами, каков мой талант?
Я пытался изучить теорию вопроса о таланте (именно о таланте, а не просто даре), а именно методику его выявления по Библии, молился, но ответа не получал.
Естественно, я кинулся расспрашивать о «методике выявления» разве что не всякого, кто мне в то время в церкви казался хоть мало-мальски духовным человеком. Однако, к моему удивлению, выяснилось, что ни один из опрошенных ответа от Бога о своём предназначении не получал, да ответа, собственно, и не испрашивал — за руководство к действию принимая просьбу-распоряжение вышестоящего в церковной иерархии.
Впрочем, одну ценную мысль мне, действительно, подсказали. Я понял, что до сих пор я не получал ответа на молитву, видимо, потому, что не был готов принять любой ответ. Подсказка заключалась, собственно, в рассказе о некоем «стародавнем» (времён Хрущёва) пасторе общины то ли в Караганде, то ли где-то рядом, который составил список: по вертикали стояли фамилии членов общины, а против каждой был записан его дар (талант?). И, как мне рассказали, в одной графе стояло: дар писать письма.
Не знаю почему, но меня тогда нисколько не взволновала возможная обязанность ухаживать за парализованными (тем более, что в этом организованном столичной общиной служении я уже участвовал), быть книгоношей или что-нибудь вроде того, но всё время писать письма … Я тогда с ужасом думал: а вдруг? Всю жизнь?!..
Отметив свой ужас по поводу Божьего предельно благожелательного ответа, — а только Он лучше всего меня знает, и потому Его ответ для меня благо, — я понял, почему сам ответа до сих пор не получал!
Готовность к любому ответу и есть, очевидно, одно из основных условий получения его в молитве.
И хотя интонация просьбы в молитве мне мешала — у всеведущего ли самопожертвенного Бога что-либо выпрашивать?! — тем не менее я месяца через два обдумываний-приготовлений вновь преклонил колена…
Кстати, происходило это зимой в Заокском, в пустой учебной аудитории тогда ещё только-только покинутого отделочниками здания первого корпуса семинарии. Работал я тогда разные строительные работы, но в последний приезд по большей части отливал в подвале из цветного бетона подоконники для строившегося многоквартирного здания для преподавателей…
Отдохнув после работы, я в который уже раз преклонил колена.
— Тыдолжен писать, стать писателем, — был немедленный ответ.
Поистине, ответ был странен!
Если не сказать неприемлем (рассуждая по-человечески). Отец — геофизик и вулканолог, мать — петрограф, да и вообще вся родня со всех сторон — естественники, сектор наук о Земле, с гуманитарными науками ни у кого из них ничего общего. Так же и у меня филологических увлечений не было не только в школе, но и затем в вузе — разумеется, техническом. Более того, с филологией и литературой я всегда был, мягко выражаясь, не в ладах, вплоть до переэкзаменовки по русскому языку после девятого класса.