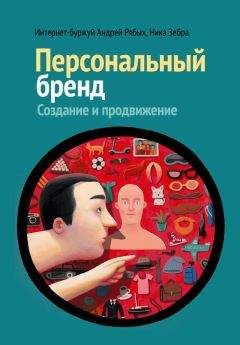А, значит, это на Гроссмана нагоняли холода по телефону.
— Мне насрать, — говорил мистер Патимкин. — Вы не единственный в городе, друг мой. — И он подмигнул мне.
Ага, в заговоре против Гроссмана. Мы с мистером Патимкиным. Я, насколько мог заговорщицки, улыбнулся.
— Ладно, мы здесь до пяти… Не позже.
Он что-то написал на листе бумаги. Оказалось — просто большой крестик.
— Мой парень здесь будет, — сказал он. — Да, взял его в дело.
Неизвестно, что сказал на том конце Гроссман, но мистер Патимкин рассмеялся. Мистер Патимкин повесил трубку, не попрощавшись.
Он посмотрел назад — как там дела у Рона.
— Четыре года в колледже, и не может разгрузить машину.
Я не знал, что сказать, и решил сказать правду:
— Я, наверное, тоже.
— Можно научиться. Я что — гений? Я учился. От труда никто еще не умирал.
С этим я согласился.
Мистер Патимкин посмотрел на свою сигару.
— Человек усердно трудится — он что-то получает. Сидя на заднице, никуда не придешь… Самые большие люди в стране тяжело трудились, поверьте мне. Даже Рокфеллер. Успех легко не дается…
Это была не столько речь, сколько мысли вслух; одновременно он озирал свои владения. Мистер Патимкин не был краснобаем, и у меня сложилось впечатление, что этот поток философем вызван деятельностью Рона и моим присутствием — присутствием чужого, который однажды может стать своим. Впрочем, приходило ли такое в голову мистеру Патимкину? Не знаю; знаю только, что эти несколько произнесенных слов едва ли могли передать удовлетворение и изумление перед жизнью, которую ему удалось построить для себя и своей семьи.
Он снова взглянул на Рона:
— Посмотрите на него — если бы он в баскетбол так играл, его бы выгнали к черту с площадки. — Но сказано это было с улыбкой.
Он подошел к двери:
— Рональд, отпусти их обедать.
Рон крикнул в ответ:
— Я думал, часть из них пойдет, а часть — попозже.
— Зачем?
— Тогда тут все время кто-нибудь будет…
— Что еще за фокусы? — крикнул мистер Патимкин. — Все уходим обедать вместе.
Рон повернулся к рабочим:
— Все, ребята. Обед!
Его отец улыбнулся мне.
— Толковый парень? А? — Он постучал себя по голове. — Университет, мозги нужны, а? К бизнесу его не тянет. Он идеалист. — И тут, кажется, мистер Патимкин вдруг вспомнил, кто я такой, и поспешил поправиться, чтобы не обидеть. — Это ничего, если ты учитель или, как вы, ну знаете, студент или что-то такое. А тут надо быть немножко гонеф. Вы знаете, что это значит, гонеф?
— Вор, — сказал я.
— Вы знаете больше, чем мои собственные дети. Они гои[35], вот сколько они понимают. — Он посмотрел на негров-грузчиков, которые проходили как раз мимо конторы, и крикнул им: — Вы там помните, сколько в часе минут? Чтобы через час назад!
В контору вошел Рон и, конечно, пожал мне руку.
— У вас что-то есть для миссис Патимкин? — сказал я.
— Рональд, дай ему образчики серебра. — Рон отвернулся, и мистер Патимкин сказал: — Когда я женился, у нас были вилки и нолей по пять центов. Этому мальчику надо кушать с золота. — Но в его словах не было гнева; отнюдь.
* * *
Во второй половине дня я поехал на своей машине в горы и стоял у проволочной изгороди, наблюдая за воздушными прыжками и застенчивым питанием оленей под защитой вывески: «Не кормите оленей. Распоряжение по заповеднику „Южная гора“». Рядом со мной перед изгородью стояли десятки ребятишек; когда олени слизывали с их ладоней воздушную кукурузу, они смеялись и кричали, а потом огорчались, когда от их возбужденных криков оленята убегали на дальний край поля, туда, где их коричневые мамаши царственно наблюдали за петлистым потоком автомобилей, поднимающихся по горной дороге. Позади молодые белые мамы, едва ли старше меня, а часто и моложе, болтали в открытых машинах и время от времени поглядывали на своих детей — чем они там заняты. Я видел их раньше — когда мы с Брендой выходили в поселок перекусить или приезжали сюда обедать: компаниями по три — по четыре они сидели в сельских закусочных, рассыпанных по заповеднику, их дети лакомились гамбургерами и солодовым молоком и получали монетки, чтобы скормить их музыкальному автомату.
Прочесть название песни они еще не умели, но выкрикивать ее слова уже могли — и выкрикивали, а мамаши, среди которых я узнавал своих соучениц из школы, сравнивали свои загары, супермаркеты и отпуска. Сидя там, они выглядели бессмертными. Волосы у них всегда сохраняли нужный им цвет, одежда — нужную фактуру и тон, в домах у них — простой шведский модерн, пока он был моден, а если вернется тяжелое уродливое барокко, тогда долой коротконогий мраморный журнальный столик и добро пожаловать, Людовик XIV. Это были богини, и, будь я Парисом, я не смог бы выбрать между ними, настолько микроскопическими были различия. Их судьба отштамповала из них одно целое. Сияла только Бренда. Деньгам и комфорту не стереть ее особливости… не стерли еще — или уже? Что я люблю? — возникал вопрос, но, поскольку я не охотник втыкать в себя скальпели, я повертел руками за изгородью и позволил маленькой оленьей мордочке слизнуть мои мысли.
Когда я вернулся в дом Патимкиных, Бренда была в гостиной, такая красивая, какой я ее еще не видел. Она демонстрировала новое платье матери и Гарриет. Даже миссис Патимкин, похоже, смягчилась при виде ее красоты: как будто ей впрыснули успокоительное, и мышцы ненависти к Бренде вокруг глаз и рта расслабились. Бренда без очков принимала позы; когда она посмотрела на меня, это был пьяноватый, затуманенный взгляд, и, хотя другие могли бы счесть его сонным, в моих жилах он зазвенел вожделением. Миссис Патимкин сказала ей, что она купила очень симпатичное платье, я сказал, что она выгладит чудесно, а Гарриет сказала, что она очень красивая и сама должна быть невестой, — и наступило неловкое молчание, пока мы раздумывали, кто же должен быть женихом.
Потом, когда миссис Патимкин увела Гарриет на кухню, Бренда подошла ко мне и сказала:
— Я должна была быть невестой.
— Должна, родная. — Я поцеловал ее, а она вдруг заплакала.
— Что случилось? — спросил я.
— Выйдем на двор.
На лужайке Бренда уже не плакала, но голос ее звучал устало.
— Нил, я позвонила в клинику Маргарет Сэнгер. Когда была в Нью-Йорке.
Я молчал.
— Нил, они действительно спросили, замужем ли я. Эта женщина разговаривала, как моя мать…
— Что ты сказала?
— Я сказала «нет».
— Что она сказала?
— Не знаю. Я повесила трубку. — Она отошла, обогнула дуб, а появившись из-за дерева, сбросила туфли и положила ладонь на ствол, как будто собиралась танцевать вокруг «майского дерева»[36].
— Можешь еще раз позвонить, — сказал я.
Она покачала головой.
— Нет, не могу. Не знаю даже, зачем я вообще позвонила. Мы занимались покупками, я отошла, нашла номер и позвонила.
— Тогда можешь пойти к врачу.
Она опять покачала головой.
— Слушай, Брен, — сказал я, бросившись к ней, — пойдем к врачу вместе. В Нью-Йорке…
— Я не хочу идти в какой-то грязный кабинетик…
— И не надо. Пойдем к самому шикарному гинекологу в Нью-Йорке. У которого в приемной лежит «Харперс базар». Как думаешь?
Она прикусила нижнюю губу.
— Ты пойдешь со мной? — спросила она.
— Пойду с тобой.
— В кабинет?
— Милая, муж не пошел бы с тобой в кабинет.
— Нет?
— Он был бы на работе.
— Ты же не работаешь, — сказала она.
— У меня отпуск, — сказал я, но ответил не на тот вопрос. — Брен, я буду ждать, и, когда ты выйдешь, мы выпьем. Пойдем пообедаем.
— Нил, мне не надо было звонить в Маргарет Сэнгер, это неправильно.
— Нет, Бренда. Это самое правильное, что мы можем сделать.
Она отошла, а я устал упрашивать. Я чувствовал, что смог бы ее убедить, если бы повел дело хитрее; но я не хотел добиваться своего хитростью. Я молчал, когда она вернулась, и, может быть, именно это мое молчание побудило ее сказать:
— Я спрошу маму Патимкин, не отправит ли она с нами и Гарриет…
Никогда не забуду влажную жару того дня, когда мы поехали в Нью-Йорк. Это было на пятый день после того, как она позвонила в клинику Маргарет Сэнгер. Она откладывала и откладывала, и, наконец, в пятницу, за три дня до свадьбы Рона и за четыре до ее отъезда мы нырнули в туннель Линкольна, который показался мне длиннее и дымнее, чем всегда, — адом с кафельными стенами. Мы вынырнули в Нью-Йорке, и снова на нас навалился душный день. Я обогнул регулировщика-полицейского в рубашке и въехал на крышу Портового управления, чтобы оставить там машину.
— У тебя есть деньги на такси? — спросил я.
— А ты со мной не поедешь?