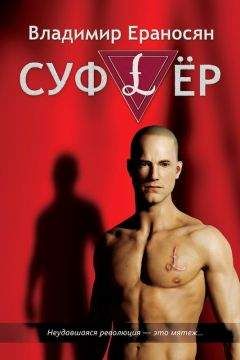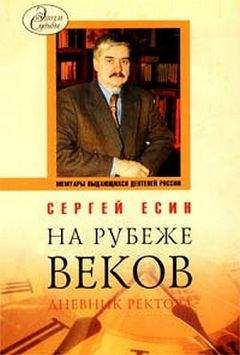Дядя Коля казался мне, мальчишке, тогда пожилым, даже старым, а было ему, как я понимаю сейчас, всего лет двадцать восемь — тридцать. Он скитался после ранения, полученного, когда торпедный катер тонул и дядю Колю, полуживого, обмороженного, все же сумели выудить из не самого гостеприимного Баренцева моря… Он тогда скитался по госпиталям, а потом долго ехал в Москву, по дороге распродавая все с себя, лишаясь шинели, кителя, шапки, даже белья: дядя Коля после фронта стал горчайшим пьяницей. Он был человеком красивым, щедрым и талантливым. До войны он успел окончить институт и был по образованию экономистом. Уже на моей памяти он пять или шесть раз блестяще начинал. В разных городах Союза: и в Калуге, и Владивостоке, и Уссурийске, и Свердловске, и Новосибирске. Каждый раз он начинал с нуля, с рядового бухгалтера или экономиста, быстро становился главбухом, начальником планового отдела. Дирекции мирились с его мелкими выпивками, а потом в один непрекрасный день начинался большой запой. Он пропивал с себя все, бросал очередную женщину, с которой собирался жить до старости, и, еще как следует не протрезвев, оказывался где-нибудь в иной точке нашей Родины.
При первом знакомстве дядя Коля мне не понравился отчаянно. Он был грязный, оборванный, небритый. А мама сразу захлопотала над этим неопрятным мужиком. Стала вытаскивать из чемоданов отцовские вещи, рубашки, галстук, белье. Мне это не нравилось, особенно потому, что раньше мама все это берегла, аккуратно складывала и внушала нам мысль: выяснится недоразумение с отцом, он вернется, и вещи снова ему будут нужны. И в момент, когда она щедро одаривала дядю Колю, мне казалось, что совершалось предательство. Я вообще ревновал маму ко всем — к отцу, к брату, к любым нашим знакомым. Я даже был рад, что отца нет с нами, потому что вся любовь мамы достанется мне. А тут приехал какой-то оборванный человек, и я уже на заднем плане, все в доме закрутилось вокруг него. Я не мог спокойно наблюдать эту сцену, ушел в свой разукрашенный уголок и горько плакал от собственного несовершенства, от чувства ревности, которое, я понимал, гадкое и недостойное чувство, но оно жило тогда во мне, и я не мог его погасить и плакал от собственного бессилия. Однако не такой простой был и мой дядя. Он вытащил меня из угла, «не заметила что я плачу, затормошил, закричал, чтобы мама собирала белье не только ему, но и мне и что сейчас же мы с ним вдвоем отправляемся в Центральные бани, где есть парилка и даже бассейн, в котором можно плавать.
— Неужели можно плавать?!
— Можно плавать! — закричал дядя. — И мы будем там плавать, а мама даст нам еще красненькую на пиво, и мы попьем пивка.
Мама казалась счастливой, такой я ее помнил до войны. Она смеялась. Зубы у нее были ровные, на левой щеке при улыбке появлялась ямочка.
— Только, пожалуйста, Николай, — говорила она, внезапно посерьезнев, — не давай ребенку алкоголя.
Мы ехали с дядей Колей на трамвае и на метро, и я немножко стыдился его оборванного вида. Отстранялся от него, будто бы еду сам по себе, а он, напротив, ничуть не тушевался. Потом мы с ним парились в бане, он мне дал отхлебнуть из кружки пива. Сидя в предбаннике на сложенном полотенце, дядя Коля рассказывал сгрудившимся вокруг него мужикам что-то военное, а когда надел костюм отца, то превратился в ладного парня.
Дома я уже не отходил от дяди Коли ни на минуту. Я даже сказал, что буду с ним спать, и, лежа на «гостевом матрасе» на полу, на теплой руке дяди Коли, уже засыпая, слышал, как мама и дядя Коля шептались через комнату о бабушке, о тете Нюре, о какой-то родне, которую я и не знал, а если и видел когда-нибудь, то не помнил.
На следующий день вечером мы с мамой провожали дядю Колю в Калугу. На вокзале он уговаривал маму: «Пусти со мной Диму. Ты сама мне читала письмо Нюры — пусть поживет у нее, она же согласна взять его на зиму. Ты пропадешь с двумя ребятами. А маму, — продолжал дядя Коля, — я, как приеду в Калугу и устроюсь на работу, возьму к себе. Она всегда мечтала жить не с вами, дочками, а со мною, с младшеньким. Нюре будет полегче… Давай я заберу Диму».
Мне и с дядей Колей хотелось поехать и маму оставить было жалко. Но мне так хотелось проехаться на поезде!
— Нет, Николай, сейчас это невозможно, — говорила мама. — У Нюры самой трое девок, мать живет… Они только что вернулись из эвакуации. Дмитрия я не пущу.
…Мы посматривали на часы. Дядя Коля стоял на подножке вагона ладный, в отцовской парадной шинели, в каракулевой серой шапке. Наконец паровоз гуднул, вагоны, залязгав, чуть тронулись. Дядя Коля поцеловал маму, нагнулся ко мне, и я почувствовал, что взлетаю!
— Не волнуйся, — кричал дядя Коля маме, держа меня под мышкой.
— Дима, — кричала, смеясь и плача, мама, — ты уже большой, пиши мне письма.
Поезд вышел из-под вокзального ангара и пробирался через стрелки. Падал легкий снежок. Из вагона раздавались трели гармошки.
Если задуматься, как все же цивилизация сумела сохранить себя, несмотря на войны, разрушения, непонимание одного народа другим и смертельную неприязнь классов; если задуматься, как даже в огненные лихолетья, когда народ напрягал все силы, отстаивая само свое физическое существование, и, казалось бы, в тот период на что-либо другое, чем на борьбу и самосохранение, сил и не было; если задуматься над этим, то придешь к интересному ответу: в преемственности быта, умении удержать навыки семьи, в поддержке каждой особи, чтобы она в голод и бездомицу не опустилась до животного дремучего уровня, — в этом огромная заслуга женщин. С каким муравьиным упорством стремились они поддерживать хотя бы внешне привычный быт семьи. Будто бы в этом ритуальном постоянстве — залог возвращения в дом мужа или сына. Когда буквально нет крыши над головой, женщины так же методично заставляют детей чистить зубы, мыть руки перед едой, мыть в ледяной воде ноги перед сном, аккуратно, на тарелке резать хлеб, даже если это всего-навсего скромная пайка. В этом их поддерживает инстинкт и консерватизм женских привычек, но оборачивается все крепкими навыками, закладываемыми, несмотря ни на что, в следующее поколение, в их детей.
Сейчас, встречая дочерей тети Нюры из Калуги, уже взрослыми, пожилыми людьми, я поражаюсь той закваске, которую они получили от матери — тихой и незаметной женщины. Ее в доме-то не было видно, но она крепко держала дом своей мягкостью и терпением.
Калужский дом стоял на самой окраине, на берегу реки. На другом берегу виднелась деревенька с красивой церковью. Слева от дома, километрах в двух, был тогда наплавной мост, к которому меня раз принесло на лодке. Я отвязал соседскую лодку, желая немножко покататься по заводи, отталкиваясь шестом. Но шест оказался коротким и не доставал дна. Я долго боролся с течением в протоке, но все же лодку вынесло на стремнину и потянуло на глубину к мосту. К этому времени у моста оказалась бабушка (она зиму прожила с дядей Колей на снятой квартире, но дядя Коля запил, промотал последние вещи бабушки, и она вернулась к тете Нюре). В руках бабушки на этот раз почему-то оказался прут, и этим прутом она гнала меня, ревущего, по дороге, к дому. Справа от дома, через реку, были набиты сваи, доходившие до фарватера, — остатки военного моста. Между двумя этими мостами находилась акватория моего детства. Самых счастливых, самых безмятежных дней в жизни.
Какой внезапной бомбой оказался я в небольшом бревенчатом доме на берегу! Меня надо было и положить куда-то, и накормить, и вымыть, и сходить со мною в школу. Наверное, дочери тети Нюры шипели на свою мать, что та согласилась взять меня к себе — по тем временам это был поступок грандиозного великодушия. Но этих подспудных девичьих неудовольствий я совсем не замечал. Я прекрасно и свободно чувствовал себя и дома, и на огороде, и в саду, и за столом. Только один раз тетя Нюра внезапно стукнула деревянной ложкой о столешницу:
— Молчать, змеи шипучие. Я здесь хозяйка. Сироту обижать не дам.
«Шипучие змеи» все вместе сделали для меня много добра, за которое я им, конечно, не отплатил. Каждая из них меня чему-нибудь научила или пыталась научить. Веселая и подковыристая Тамара — жалеть детей. В то время она только начинала свою работу воспитательницы в детском доме и рассказывала мне обо всех своих питомцах. Кого бросили матери. У кого нашлись родители.
Все это было очень интересно, и через нее я впервые учился сострадать.
Нина — терпению и самоограничению. Из обмолвок я понял, что у нее на фронте убили жениха. Нина работала в финотделе и, по-моему, уже тогда начинала учиться в институте. Ее зарплата и рабочая хлебная карточка имели для семьи большое значение. Ее всегда нагружали поручениями. Если болела бабушка, вызывать врача, сходить в аптеку. Вечерами Нина, если не занималась, то шила на семью. Несколько раз заходили кто-то из ее сверстников, уже вернувшихся по болезни с фронта, но у Нины не было времени с ними поболтать: или корпела над тетрадками, или строчила на швейной машинке. Мать ее, тетя Нюра, часто пыталась помочь ее встречам с парнями. Предлагала доделать, дошить за нее. Но у Нины было свое понятие долга. Этому терпению и чувству долга она учила и меня.