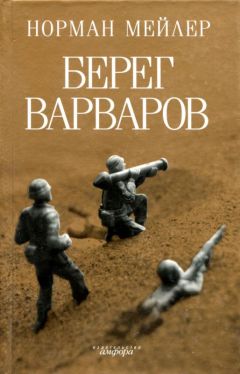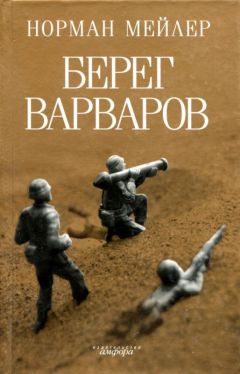— Можете взять с собой это. — Для большей наглядности она комично царственным жестом показала на пепельницу. — Если считаете нужным, мистер Ловетт. — После фразы, произнесенной таким тоном, мы как минимум должны были оказаться в особняке, где вышколенные слуги подавали бы нам сигары и коньяк.
К моему немалому удивлению, гостиная Гиневры не произвела на меня отталкивающего впечатления. Мебель здесь была более чем скромной, но хозяйке каким-то чудом удалось создать в комнате такую атмосферу, которая обычно описывается как «бедненько, но с достоинством». Пружинная кровать была закрыта матрасом и темно-зеленым покрывалом и вполне могла сойти за диван. Стояли в комнате и несколько потертых кресел, судя по всему, не так давно заново перетянутых. Несколько мрачный — в коричневой гамме — ковер висел на одной из стен, оклеенной обоями цвета томатного соуса. Зеркал в комнате было, пожалуй, больше, чем требуется даже любящей поглазеть на себя хозяйке; потертые светильники лишь подчеркивали общую бедность обстановки. На каждом столике, полочке и просто на всех горизонтальных поверхностях были расставлены какие-то сувенирчики-безделушечки, которые, впрочем, и придавали комнате некое подобие цельности оформления. У меня возникло ощущение, что, как и все люди, которые вынуждены заниматься домом, хотя заслуживают, по своему собственному мнению, прижизненного памятника, Гиневра не часто заходила в эту обитель сравнительной чистоты и некоторого уюта.
Гиневра нервно походила по гостиной и наконец опустилась на один из стульев.
— Милая комната, — заметил я.
— Да, мне и самой нравится, — с удрученным видом кивнула Гиневра. — Признаюсь, пришлось повозиться. Эх, будь у меня побольше денег, я, наверное, сумела бы неплохо обставить и оформить всю квартиру. — На некоторое время она замолчала и, поддавшись накатившей волне уныния, осталась сидеть на стуле, глядя на ковер перед собой. — Господи, сколько же сил на все это было положено, — пробормотала она чуть слышно. Машинально она засунула руку в карман бриджей и зачем-то вывернула его наизнанку. — Вот только… Не ценит он всего этого, не ценит. — Она откинулась на спинку стула, и ее бюст тяжело колыхнулся, слегка прикрытый тканью блузки. Пальцы Гиневры тем временем машинально ощупывали жировую складку, опоясывающую ее тело по линии талии.
Гиневра продолжала сидеть молча и даже словно задремала, но ее внутреннее беспокойство явно передалось девочке, беспорядочно перемещавшейся по комнате. Я стал наблюдать за Мониной. Она остановилась перед одним из зеркал и, внимательно оглядев свое отражение, вдруг поцеловала собственное запястье, увлеченно копируя при этом самовлюбленный взгляд и выражение лица, которое она подсмотрела у своей матери. «Пепеница, — прошептала она, — возьмите пепеницу». При этом маленькая девочка грациозно взмахивала руками, наклоняла голову и так увлеченно разыгрывала пантомиму приглашения перейти в гостиную, что в какой-то момент, довольная увиденным в зеркале, сама рассмеялась над собственной серьезностью. Отойдя в сторону, она остановилась у одного из невысоких столиков, на котором выстроилась целая вереница каких-то фарфоровых фигурок и сувенирной посуды. Взгляд Монины задержался на маленькой сувенирной чашечке. Внимательно изучив орнамент, которым был украшен край чашки, она вдруг забормотала: «Мама, Монина, мама, Монина». На лице ребенка заиграла улыбка, Монина подошла ко мне и, как заклинание, повторила несколько раз эту пару созвучных слов. Только теперь я разглядел, что на чашечке, которую она держала в руках, были запечатлены в качестве основного декоративного элемента два купидончика.
Гиневра вздрогнула и села на стуле прямо.
— Монина, убери руки от чашки! — прикрикнула она на дочку и слишком поздно поняла, насколько двусмысленной для простодушного и в то же время смышленого ребенка была эта команда. Какой смысл должна была вложить Монина в слова матери?
Монина, естественно, выбрала буквальный вариант и, «убрав руки от чашки», уронила ее на пол.
— Ах ты, маленькая стерва! — заорала на дочку Гиневра. — А ну марш в спальню!
— Нет, — застонала Монина.
— Вставай в угол!
— Нет.
Гиневра с грозным видом поднялась со стула.
— Я сейчас ремень возьму! — крикнула она.
Монина недовольно поджала губы и не по-детски озлобленно посмотрела на мать.
— Ну ладно, — согласилась она в конце концов и стала медленно, с явной неохотой пятиться к двери. Уже на пороге она задержалась и со сравнительно безопасного расстояния в полный голос предала маму анафеме:
— Мама — дура, мама — дура.
— Я сейчас ремень принесу!
Монина исчезла за дверью.
Гиневра простонала:
— Нет, этот ребенок с ума меня сведет. — Закрыв глаза, она вдруг рассмеялась, да так, что ее живот столь же весело заходил ходуном. — Умереть не встать. — Через пару секунд она наклонилась и стала собирать осколки фарфора с пола. При этом она находилась буквально в ярде от меня, в такой позе, что не пялиться на ее грудь было попросту невозможно. Гиневра тем временем хихикала, явно не слишком огорченная поведением дочери.
— Ох уж мне эта девчонка, — бормотала она себе под нос.
Она посмотрела вверх — на меня, и на ее губах заиграла двусмысленная улыбка.
— Ну что ж, Ловетт, вот мы и остались одни, — сказала она.
— Да, я добился своего, — подчеркнуто медленно произнес я.
— Ах, проказник.
Она сложила осколки фарфора в пепельницу, стоявшую рядом со мной, и вернулась на свое место. На этот раз она уселась, расставив довольно широко ноги и подперев сложенными крест-накрест руками пышную грудь. Промычав что-то невразумительное, но явно довольным тоном, она стала медленно тереться голыми плечами о ткань на спинке стула, словно массируя кожу. Судя по выражению ее лица, этот процесс доставлял ей немалое удовольствие.
— Никогда не чесались спиной о бархат?
— Да как-то не приходилось, — хрипло ответил я.
— Ой, а мне так нравится. — И Гиневра снова не то застонала, не то замурлыкала от удовольствия. — Какая жалость, что это не бархат. Хлопок, он и есть хлопок. Приятно, но все-таки немного царапает. — Она довольно зевнула. — Я вот что скажу, Ловетт… Сама не знаю, с чего это на меня нашло. Раньше я никогда никому об этом не рассказывала. В общем, признаюсь вам, что, оставаясь одна, я люблю раздеться догола и поваляться на бархатном покрывале.
Что это было — признание в тайном пороке или просто намек, нацеленный на то, чтобы обострить ситуацию, в которой мы с ней оказались?
— Занятно, — пробормотал я, просто для того, чтобы выиграть время. На самом деле я не знал, что сказать и как вести себя в этот момент.
— Да, были в моей жизни времена и получше, — сообщила мне Гиневра. — Страсть и ярость.
Я встал с кресла и подошел к ней. Мой поцелуй она пробовала на вкус несколько секунд, а затем оттолкнула меня и, удовлетворенно выдохнув, с улыбкой на лице сказала:
— А ничего, мне понравилось.
Я потянулся к ней, но она перехватила мою руку.
— Э нет, на сегодня хватит.
Во мне к тому времени проснулись все звериные инстинкты: как бык на корриде, который, озверев от ярости, почувствовал, что его рога вонзились в беззащитный бок лошади, я забыл обо всем и чувствовал, что мне в жизни нужно только одно — бодать, бодать, поднимать на рога и втаптывать противника в землю. Мои руки словно сами собой оказывались то здесь, то там — на самых соблазнительных и пышных частях ее тела.
— Ишь ты… — сказала Гиневра, уже гораздо сильнее отталкивая меня прочь от себя, при этом она в ту же секунду сумела встать на ноги.
Так мы и стояли лицом к лицу, а я при этом обнимал ее за талию.
— Это еще что такое творится! — напустилась она на меня в притворном, сдобренном удовольствием гневе. — Нет мне спасения от вас, мужиков.
— От меня точно не будет, — пробубнил я.
Она тяжело вздохнула и сделала шаг назад.
— Уверяю вас, молодой человек, мужчин у меня было более чем достаточно, и близкая встреча со мной ни для кого из них не проходила безнаказанно и безболезненно. Все они как один поголовно влюблялись в меня. Есть, наверное, во мне что-то такое, особенное, буквально на химическом уровне проявляется. — Она огляделась и вновь пристально посмотрела на меня: — Знаете, Ловетт, а вы ничего, молодой, симпатичный… Я бы вполне могла вами увлечься и даже пуститься в небольшое любовное приключение, но больше я в такие игрушки не играю. Сама не знаю почему. По крайней мере, муж здесь точно ни при чем, но как-то так я сама для себя решила, что больше — ни-ни. — Эти слова она произнесла с явной внутренней гордостью за себя. — Сами посудите, взять, например, вас и меня, ну могли бы мы с вами закрутить что-то вроде романа, но скажите на милость, мне-то какая от этого польза? Нет-нет, вы мне скажите.