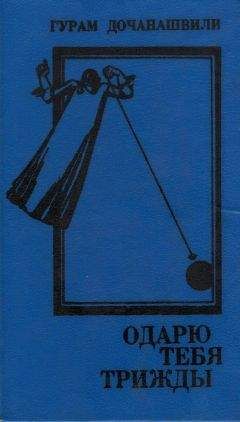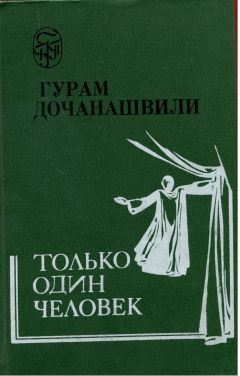— Простите, вы что, немного не того?
Спросили Луку.
— Нет, нет,— тряхнул головою Лука и все с той же улыбкой уставился в трамвайный потолок. Он думал о своем. Что за дело ему было до того человека — ему вспомнилось странное слово «Каморра» и еще более странное — «Канудос». Когда он очнулся и протер глаза, то увидел в конце вагона глядящуюся в зеркало девушку; хотя откуда было взяться в трамвае зеркалу — это были просто две девушки одного и того же роста и одинаково одетые: они болтали между собой.
«Скорей бы уж добраться,— подумал Лука,— конца-края не видно...»
Луку ждало Дело.
1971 г.
В Харалети стряслась однажды история, не приведи бог...
После той истории — кто бы мог подумать! — прославленный на всю губернию тамада Пармен Двали бросил пить и по ночам озадаченно рассматривал звезды, держа вместо рога подзорную трубу; правда, на первых порах он по ошибке подносил ее ко рту, но со временем попривык и стал использовать как положено. А история вышла врагам на потеху, — два харалетских горожанина, два титана схватились друг с другом, и ведь кто-то же из них должен был оказаться побежденным, а это для нас, харалетцев, было непредставимо; и дело-то пошло не в шутку, дорогие вы мои, нет, куда там, — один стащил через голову сорочку и повесил ее на торчащий рядом сук, поступив, безусловно, правильно, ибо для острастки противника он так взбучил мышцы, что они уподобились валунам на каменистом берегу, и сорочка на нем все равно бы разлетелась в клочья; а второй засучил рукава, снял прикрепленные цепочкой к поясу часы и вручил их первому, кто попался ему на глаза, попросив ненадолго подержать при себе, после чего, по знаку известного тамады Пармена Двали, оба яростно кинулись друг на друга; а когда послышалось глухое уханье кулаков и противники вихрем закружились-завертелись в пылу драки, все мы, заодно с перепуганным Парменом Двали, вскарабкались на ближние деревья и продолжение схватки наблюдали уже оттуда.
Чего только не бывало в Харалети, но чтоб такое... Ах, нет, нет, бога ради... Многие, может, даже не знают, что именно в Харалети впервые в мире во время широкого свадебного пира жареному поросенку засунули в зубы редиску и в таком виде поднесли его тамаде. Естественно, что этот новый прием оживления стола, вызывающий общий шумный восторг, соседние города и деревни переняли именно у Харалети, потом это докатилось и до отдаленных местечек, а там и до крупных поселений, так что в конце концов обычай получил широчайшее распространение и никто уже не помнил, что именно в Харалети впервые засунули жареному поросёнку в зубы редиску. Но история схватки двух харалетцев до такой степени примечательна, что я не хочу, чтоб она была утрачена бесследно. И хотя сам виднейший тенор губернии, в пальто с каракулевым воротником, Осико Арджеванидзе, заявил после этой схватки, что память о «столь великолепном зрелище никогда не затянется пепельно-серым покровом забвенья», я, ваш покорный слуга, все-таки сильно опасаюсь, чтоб «беспощадное течение времени под уклон» (это тоже выражение Осико Арджеванидзе) не унесло с собой этого беспримерного состязания; но при всем том следует все же упомянуть, что виной всему был Шашиа Кутубидзе, а чтоб вы не спросили меня, что мол, это еще за Шашиа, какой такой Кутубидзе, скажу вкратце: Шашиа Кутубидзе был директором-администратором харалетского театра.
Мой Харалети, мой городок, лавиной рассыпавшийся по склонам извилистого межгорья, стоял себе тихо-мирно и никому не мешал. Начинался городок с незатейливых маленьких домишек, во двориках которых цвели розы и георгины и колыхалась, судари вы мои, сочная ярко-зеленая травушка, стояли во дворах и деревья, густо опушенные листвой и дарившие нам в летнюю пору тень; зимой-то, правда, тени не было, но она и не была нам нужна; за домами тянулись у нас виноградники, мы их поливали-орошали, лелеяли, а в погребах-марани у нас были закопаны квеври[9], вино из которых черпают с бульканьем ковшиками-оршимо; варево мы хлебали деревянными ложками, а камины были у нас в домах сводчатые, и над Харалети зимой и летом курился дымок; на раскаленных угольях жарили мы молочную кукурузу, роняя из глаз слезы от едкого дыма, а время, как вам известно, — шло. После этих неказистых домишек, в которых жили мы, настоящие харалетцы, все дальше вниз по склону шли уже более внушительные, более видные дома, с золотистыми жестяными голубочками на кровлях, с балконами и застекленными галереями, но, если уж говорить по справедливости, в них жили тоже настоящие харалетцы; а в самом центре города, на берегу главной реки, через которую всякий раз по весне взамен моста перекидывалось бревно, стояло — гордость Харалети — трехэтажное здание с мраморными колоннами; однако главным украшением Харалети являлись люди — одни плохие, другие еще похуже, некоторые же хорошие или так себе. Но гордостью Харалети, повторяю, было то самое, трехэтажное, кофейного цвета здание — наш Драматический театр. По поводу назначения директора особенно долго не раздумывали, ибо Шашиа Кутубидзе заявил, что был в молодости певцом, хотя к описываемому времени он с трудом изъяснялся лишь хриплым шепотом и злые языки поговаривали, что голос у него перегорел от медовой водки; те же злые языки утверждали, что Шашиа отроду не певал, а если, мол, обязательно надо было сажать на культурную должность пьянчугу, то уж лучше было назначить Папико-выпивоху, хотя самому Папико это бы и в голову не пришло, поскольку он был тихим пьянчужкой и предпочитал всякой культурной должности убивать часы, посиживая где-нибудь в тенечке. До этого Шашиа Кутубидзе заведовал биллиардной, что во многом послужило ему на пользу, — биллиардная ведь тоже место культурного отдыха; слава те господи, мы-то, харалетцы, кое-что в таких делах кумекаем... Ну и сверх того, заместитель городского головы Какойя Гагнидзе и его помощник Бухути Квачарава знали, что проживающий в самом Санкт-Петербурге высший сановник-советник «Гулбат Константиныч Кутубизев» если не сородич, то уж во всяком случае однофамилец Шашии. А впрочем, что тут такого особенного приключилось, что я вам столько об этом толкую, то ли еще бывало на белом свете? Короче говоря, Шашию назначили директором. А в качестве блюстителя порядка приставили к нему урядника по фамилии Кавеладзе, с огромным маузером на боку. Этот урядник, разиня рот, лупил глаза на все театральные представления, чему люди страшно поражались, узнав, что он глух как тетерев: чего же, дескать, тогда смотреть! Разве что ему приглянулась Верико Тирошвили, и то много ли он поймет... Кавеладзе, денно и нощно торчавший в театре, входя на репетицию, крепко прижимал ладонью к бедру длинные ножны, чтоб не зацепиться ненароком за ножку стула и не произвести шума. Некий приглашенный со стороны режиссер, оказавшийся весьма странным, вернее весьма своеобразным человеком, как-то, увидев пробиравшегося на цыпочках нескладного верзилу Кавеладзе, придя в страшное раздражение, крикнул: «Извольте выйти вон, гражданин, я не желаю, чтоб посторонние были посвящены в мои методы работы!» Он тогда еще не знал, что Кавеладзе глухой, но и когда ему объяснили это, не пожелал отступиться от своего слова и, несмотря на то, что почуявший что-то неладное Кавеладзе, укоризненно глядя на него, будто взывал к его совести: «Значит, мол, так-то промеж нами, да?!», все же остался стоять на своем: «Ну и что с того, что глухой, я совсем не хочу, чтоб какие-то там... эээ... глухие и всякие прочие глазели, как я работаю», — заставил-таки Кавеладзе выйти вон, указав ему на дверь весьма энергичным, поистине театральным жестом. Так что во время его репетиций сконфуженный Кавеладзе понуро сиживал на пыльной лестнице у входа в театр и колол маузером орехи: уж очень он их любил, особенно молодые, в зеленой кожуре. А во все остальные часы он неизменно находился в театре — то походит взад-вперед по партеру, то поднимется на галерку... Даже и по ночам не покидал он театр: запрет дверь на засов, оглядится по сторонам — не тянет ли откуда-нибудь дымом, и устремляется к стоящему посреди сцены большущему сундуку. Сундук этот во время представлений выполнял множество различных обязанностей — то он был кроватью, то столом, то могильной плитой, да и мало ли еще чем — всего не перечтешь... Кавеладзе, значит, устремлялся к середине сцены, а мы, прилипшие снаружи к окну юркие девчонки и мальчишки, с превеликим интересом наблюдали, как он стелил постель на этом большом сундуке, в котором хранились атласный занавес, пудра, помада, парики и всякая всячина в том же роде; потом Кавеладзе отстегивал пояс с маузером, снимал через голову болтавшуюся на ремне шашку, стаскивал тяжелые сапоги и, присев на сундук, шевелил затекшими пальцами ног, прикрыв от блаженства глаза. Только после этого он снимал мундир урядника и брюки, взбивал по своему вкусу подушку, разом вскидывал на постель обе соединенные вместе голени и, устроившись поудобнее, натягивал на свои веснушчатые плечи одеяло. Вот уж сколько лет с того минуло, и на какие театры, на каких актеров не нагляделся я волею судьбы, но, как призадумаюсь, могу сказать без малейшего колебания: никто еще не держался ни на одной театральной сцене мира так естественно, как урядник Кавеладзе.