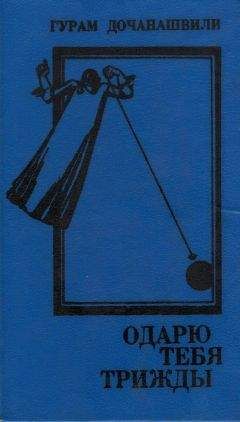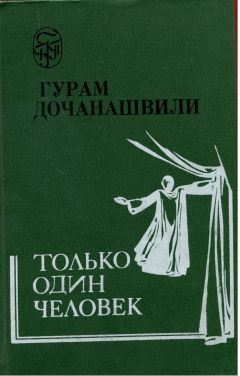— Поди сюда, ты!
Наш Папико-выпивоха тут же покидал облюбованное тенистое местечко и покорно застывал поодаль.
— Имя!
— Папико.
— Разговоры! — гремел Титвинидзе.
Наш смирный Папико, который никогда и мухи не обидел, продолжал стоять, как стоял.
— Какой сегодня день, малый?
— Среда.
— Разговорры! Ты посмотри, как обнаглели! — И, бросив мимолетный взгляд на свою выпяченную колесом грудь, пристав вновь уставлялся на пригнувшего спину Папико:
— А завтра какой день будет?
— Четверг.
— Послезавтра?
— Пятница.
— Раз-го-ворры!
Затем взглянет искоса на Терезу, огладит рукой огнестрельное оружие типа «Смит-Вессон» и спросит:
— Фаэтон Бухути Квачарава здесь не проезжал?
На сей раз Папико, судари вы мои, глухо отмалчивался.
— Не проезжал, спрашиваю?!
Папико безмолвствовал.
— Не говоришь, да? — вскипал Титвинидзе. — Спелись, да? Бунтовать, да? Бунт, это же бунт, а?! Кавеладзе, ко мне!
Наш урядник прижимал к бедру ножны и, подбежав, вытягивался, весь превратившись в слух; хотя где там у него слух: он же был глух, как тетерев.
— Это же бунт, а? Кавеладзе!
— Девятнадцатое, кажется... — бормотал тот.
— Что за девятнадцатое, какое девятнадцатое, олух несчастный, — выходил из себя пристав.
— Июля, начальник.
— Молчать! — орал Титвинидзе. — Нуу, я вам покажу! И тебя тоже, да, втянули в свои безобразия? Башки поотрываю!!!
У смирного выпивохи Папико были синие глаза.
* * *
Какая свадьба могла быть мыслима в Харалети без Пармена Двали, восседающего во главе пиршественного стола! Кто-то даже посвятил ему стих: «Нам сердца ты должен радовать, сидя во главе стола». Когда Пармен пригубливал знаменитый огромный рог и кадык его начинал мерно ходить вверх-вниз, когда Пармен Двали высасывал последнюю каплю из подводяще соблазнительного сосуда чинчилы, когда Пармер Двали приникал к полной до краев чаше, а затем демонстрировал всему столу ту же чашу вверх дном, — посмотреть на это, поверьте, много стоило, но десятикрат большего стоила его речь, когда он произносил свои живописнокартинные тосты. Каких только цветистых слов не произносил его язык, каких витиеватых оборотов вы бы от него не услышали: «сидите рядышком, словно голубки», «воркуете и щебечете», «ты, звезда, сверкающая в безлунной ночи», «твоя краса затмевает свет полуденного солнца», «родина у человека — одна», ну и так далее в том же духе. И пошутить, побалагурить умел он к месту, и для этого тоже находились у него подобающие слова. Да и один голос его чего стоил — звучный, заливистый, лучше некуда. Бывало, вскинет он повыше голову с раскрасневшимся лицом, вытянет шею и, прикрыв глаза, так красиво, так голосисто затянет втору... а потом снова произнесет тост, очередной, как положено. И загрустившего, бывало, оживит, и расходившегося успокоит; один-единственный был у него недостаток, но какой! — он брал за ведение стола деньги. Но и то сказать: кто из нас без недостатка. Другого-то ведь никакого дела у него в руках не было, что же еще ему оставалось? Да мы его и не порицали. Одно плохо — частенько приходилось ему набираться через край, и лицо у него за последнее время все пошло красными пятнами, а нос так и полыхал багрянцем. Беда, — пригорюнился наш Пармен, не сочли бы меня люди за пьяницу, что за цена мне тогда будет. И вот, в один прекрасный день повернулся он лицом к нашему Папико и говорит ему при всем честном народе: «Куда это годится, парень, столько пить!» Папико только разок глянул на него из-под бровей и вновь ушел в свои смутные размышления. «Не пей, парень, не пей, — продолжал Пармен Двали, — хуже пьянства нет ничего на свете... Ты, к примеру, посмотри на меня, — тут он обвел взглядом присутствующих, — я выпиваю каждый день больше, чем ты за целую неделю, но я же не пьяница, человек ты добрый, — я пью, чтоб провести время, повеселиться самому и потешить людей, и все это под приятные разговоры, под шутки-прибаутки, под всякие занимательные истории, а ты, Папико, ты ведь и рта никогда не раскроешь. Хлопнешь два-три стакашка и норовишь приткнуться где-нибудь в тенечке под деревом. Не гоже так, сударик ты мой: или пей весело, или не пей вовсе. Ну не прав ли я, а?»
Папико сидел притихший, печально уставившись в землю.
— Чего ты молчишь, как на камне нарисованный? — подпустил ради шутки Пармен и, подождав, пока стихнет смех, пошел дальше: — Я вот все присматриваюсь к тебе и вижу, гложет тебя что-то. И скажу сразу, почему мне так кажется. На работу ты не ленив — всегда рад подсобить каждому, кто ни попросит, а не дадут ни копья — ты и слова не скажешь... как на камне нарисованный, — повторил свою остроту Пармен. — Человек ты не злой, плохого никто от тебя не видел; на влюбленного тоже ты не похож, и потом, это такое дело, что ты бы не выдержал и обязательно хоть кому-нибудь открылся, да, в конце концов, мы бы и сами заметили; что же еще остается: только какая-то тоска! Не иначе, как гнетет твою душу что-то...
Папико по-прежнему сидел молча, печально уставившись в землю.
— Вот гляжу я на тебя сейчас, — продолжал Пармен Двали, — и сердце у меня кровью обливается: пусть ты и пьяница беспробудный, но все-таки ты наш, одну воду мы с тобой пили, одним воздухом дышали, вот и томлюсь я душой, глядя на тебя, а как же иначе...
Папико поднял голову и вперился взглядом куда-то в необозримые дали.
— А теперь я хочу спросить тебя об одном, и ты должен мне тут же, при всех ответить, — и пошутил, даже и глазом не поведя в сторону урядника Кавеладзе: — Ишь как уставился на нас, дубина, а сам небось ни слова не понял... — Все покатились со смеху, и сам Кавеладзе тоже вроде бы поддержал общее веселье тусклой улыбкой, но вскорости заметил, что все, за исключением Папико и Пармена, смотрят в его сторону, и почуяло его сердце что-то недоброе.
А Пармен уже снова взялся за свои советы и наставления, обратив общее внимание на себя:
— Так вот, мой Папико, о чем я хочу тебя спросить... Подними на меня глаза, парень, будь человеком!
Папико повернул голову и поглядел на Пармена своими подернутыми поволокой синими глазами...
— Все мы тут твои близкие, твои соседи, твои... твои доброжелатели!.. И все мы замечаем, что с тобой творится что-то неладное — ведь вот такой весельчак, как я, не превратится жё в пьяницу, не сопьется с кругу. Так ты, брат, и скажи нам, что тебя мучит.
И Папико заговорил:
— Сказать?
— Скажи!
И Папико сказал:
— Человек нам нужен, настоящий человек, мужчина.
— Что?! — не поверил своим ушам Пармен. — Кто-кто?!
Папико снова поглядел куда-то далеко за горизонт и повторил:
— Мужчина нам нужен, настоящий мужчина, человек.
— Какой еще мужчина, парень? — совсем было обалдел Пармен. — Что это ты заговорил, ровно баба?
Но Папико уже снова грустно уставился в землю.
— А кто же мы все здесь, если не мужчины!— разобиделся Пармен Двали. — Вот не мужчины разве наш уважаемый Акакий Гагнидзе и Бухути Квачарава? Не мужчины ли вот... Самсон Арджеванидзе и господин пристав Титвинидзе? Не мужчина ли тебе наш Тереза, и если даже сбросить со счету двенадцать артистов нашего театра, то кто же, как не мужчина, Шашиа Кутубидзе, а?
А вот тут Папико заметил:
— Ты еще многих пропустил, и... и все же нам нужен мужчина, человек.
— Вот тебе на! — стукнул себя по голове Пармен. — Вы слышите, люди, что он говорит? Слышите, я вас спрашиваю?! Да не будь мы мужчины, с чего бы множились наши Харалети, или вот, скажем, если бы наш урядник не был мужчиной, то чего бы он пялил глаза на Маргалиту Талаквадзе?
— Он уже давно в ее сторону не смотрит, — заметила тетя Какала, — давным-давно не смотрит.
— А на кого же теперь смотрит этот греховодник... на кого, Какала, на Макрине Джаши? Говори, не томи... Или он перестал быть мужчиной?!
— С Луизы Тушабрамишвили не сводит глаз.
— Ну, милая ты моя, какая же в том разница, будь то Маргалита Талаквадзе, Луиза или Макрине Джаши! Женщина есть женщина, моя Какала, и нечего было напрасно меня перебивать. Да, так о чем бишь я... какой-то странный шел тут у нас разговор... и как это я запамятовал...
— Человек, мужчина нужен,— сказал Папико и, поднявшись с места, воздел палец в небо: — Человек!
— Но какой? Может, ты соизволишь сказать, какой именно. Нет, вы только поглядите на этого дурня. Какой же все-таки тебе нужен мужчина, сударь мой Папико: высокий, худой, толстый или при косточке?
— Это все равно, — сказал Папико, по-прежнему глядя куда-то вдаль, на восток, — главное в том, что нужен мужчина, человек нужен. И не мне одному, но и всем нам.
Это было первое сложное предложение, вышедшее из уст Папико. До сих пор он говорил только «нет» и «да». Даже «не знаю»: вы бы не заставили его сказать, поведет плечами, и все.
— Куда ты направился, парень, куда уходишь? Я тебя или не тебя спрашиваю! Решил унести ноги?! Смотрите на него, прямо принц, да и только...