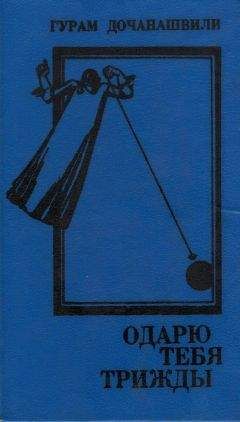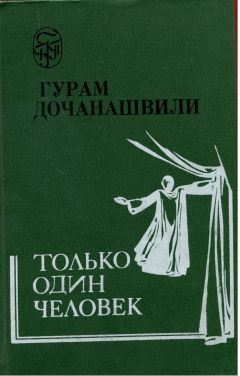А Пармен уже снова взялся за свои советы и наставления, обратив общее внимание на себя:
— Так вот, мой Папико, о чем я хочу тебя спросить... Подними на меня глаза, парень, будь человеком!
Папико повернул голову и поглядел на Пармена своими подернутыми поволокой синими глазами...
— Все мы тут твои близкие, твои соседи, твои... твои доброжелатели!.. И все мы замечаем, что с тобой творится что-то неладное — ведь вот такой весельчак, как я, не превратится жё в пьяницу, не сопьется с кругу. Так ты, брат, и скажи нам, что тебя мучит.
И Папико заговорил:
— Сказать?
— Скажи!
И Папико сказал:
— Человек нам нужен, настоящий человек, мужчина.
— Что?! — не поверил своим ушам Пармен. — Кто-кто?!
Папико снова поглядел куда-то далеко за горизонт и повторил:
— Мужчина нам нужен, настоящий мужчина, человек.
— Какой еще мужчина, парень? — совсем было обалдел Пармен. — Что это ты заговорил, ровно баба?
Но Папико уже снова грустно уставился в землю.
— А кто же мы все здесь, если не мужчины!— разобиделся Пармен Двали. — Вот не мужчины разве наш уважаемый Акакий Гагнидзе и Бухути Квачарава? Не мужчины ли вот... Самсон Арджеванидзе и господин пристав Титвинидзе? Не мужчина ли тебе наш Тереза, и если даже сбросить со счету двенадцать артистов нашего театра, то кто же, как не мужчина, Шашиа Кутубидзе, а?
А вот тут Папико заметил:
— Ты еще многих пропустил, и... и все же нам нужен мужчина, человек.
— Вот тебе на! — стукнул себя по голове Пармен. — Вы слышите, люди, что он говорит? Слышите, я вас спрашиваю?! Да не будь мы мужчины, с чего бы множились наши Харалети, или вот, скажем, если бы наш урядник не был мужчиной, то чего бы он пялил глаза на Маргалиту Талаквадзе?
— Он уже давно в ее сторону не смотрит, — заметила тетя Какала, — давным-давно не смотрит.
— А на кого же теперь смотрит этот греховодник... на кого, Какала, на Макрине Джаши? Говори, не томи... Или он перестал быть мужчиной?!
— С Луизы Тушабрамишвили не сводит глаз.
— Ну, милая ты моя, какая же в том разница, будь то Маргалита Талаквадзе, Луиза или Макрине Джаши! Женщина есть женщина, моя Какала, и нечего было напрасно меня перебивать. Да, так о чем бишь я... какой-то странный шел тут у нас разговор... и как это я запамятовал...
— Человек, мужчина нужен,— сказал Папико и, поднявшись с места, воздел палец в небо: — Человек!
— Но какой? Может, ты соизволишь сказать, какой именно. Нет, вы только поглядите на этого дурня. Какой же все-таки тебе нужен мужчина, сударь мой Папико: высокий, худой, толстый или при косточке?
— Это все равно, — сказал Папико, по-прежнему глядя куда-то вдаль, на восток, — главное в том, что нужен мужчина, человек нужен. И не мне одному, но и всем нам.
Это было первое сложное предложение, вышедшее из уст Папико. До сих пор он говорил только «нет» и «да». Даже «не знаю»: вы бы не заставили его сказать, поведет плечами, и все.
— Куда ты направился, парень, куда уходишь? Я тебя или не тебя спрашиваю! Решил унести ноги?! Смотрите на него, прямо принц, да и только...
Но здесь речь Пармена прервалась, так как Тереза, которому пришла охота покуролесить, подхватил его под мышки...
2
А время, как вы сами понимаете, — шло.
Эту фразу я так часто повторяю, что как-то неловко даже получается, но что поделаешь, ведь это истина, что оно — время — всегда и везде идет, почему же наши Харалети должны составлять исключение — и у нас тоже время шло именно так же, как и в любом другом месте, но мы, в отличие от жителей других городов, умели его здорово хорошо проводить, хорошо, да еще как хорошо — охохохоо! — мамалыга и сулгуни, молодой сыр, обернутое луком-пореем мчади, и все это под доброе винцо... а еще сваренная в глиняном горшочке и остро приправленная фасоль с добавкой пахучих травок, шашлыки, дорогие вы мои, жареная рыба с кислой подливкой — машараби, ухухухухух! А с утра, на опохмелку, славная водочка, кислые огурчики и помидоры, вяленая тарань. А жирное, наваристое хаши! Глянешь в тарелку — карта мира! — пах-пах, пах-пах, пах! Ну и пусть себе время шло — что с того...
И пусть никаких особенно важных событий у нас в Харалети не происходило, что-то помаленьку все ж таки менялось — одно время, например, были в моде парни с родинкой, даже и песня такая появилась «Парень с родинкой», так что Осико Арджеванидзе, воркуя с какой-нибудь девушкой на выданье и якобы подставляя своей собеседнице ухо, на самом деле норовил показать ей ту свою щеку — с родинкой; зато когда родинки вышли из моды и появилось даже ругательное выражение: «Эх, ты, меченый», «Эх, ты, конопатый», Осико обращал в сторону вышедших прогуляться под зонтиком харалетских жеманниц уже другое ухо; потом как-то у нас разыгрался еще большой спор — дело заключалось в том, что Шашиа Кутубидзе запретил ученому человеку Ардалиону Чедиа писать на афишах фамилию автора пьесы; таких безымянных пьес набралось уже порядочно, кто-то однажды сказал про одну пьесу, что она, мол, не похожа на народную, и не иначе как ее написал сам Шашиа. Браво, браво, эта последняя пьеса — «Коварство и любовь» — получилась у него лучше некуда! Конечно, он придумал для артистов другие имена, но одно все-таки оставил настоящее — для нашей Луизы Тушабрамишвили. Эту мысль охотно поддержали, в основном, родственники Шашии и его близкие знакомые, которых он пускал в театр без пятачка, и, наоборот, враги Шашии говорили, что-де если, для того чтоб писать пьесы, надо обязательно быть пьяницей, то, значит, все пьесы написаны не кем иным, как самолично Папико; а еще кто-то высказал соображение, что Шашиа уже по одному тому не мог написать последнюю пьесу, что у него пережженная глотка и он вечно сипит и хрипит, тогда как в пьесе все говорят нормальным голосом. Короче, спору не было конца. Мы обменивались мыслями.
Потом к нам в Харалети переселился откуда-то видный собой белобородый старик — Малхаз Какабадзе. В молодости, говаривал он, был я артистом, но потом мне наскучило вращаться в высшем свете, поселился я в глухой деревушке и стал мотыжить свое кукурузное поле, а вот теперь меня снова потянуло в театр, я продал свою усадебку, купил здесь, в Харалети, небольшую хибару, а все оставшиеся деньги разменял у Шашии Кутубидзе на пятачки, и если я пропущу хоть одно представление, то вот вам — он рванул себя за бороду — моя борода и вот вам мои усы! При этом он так переусердствовал, что чуть вовсе не остался без бороды и усов.
А так, что правда, то правда, он не пропускал ни одного представления — поднимется на галерку, усядется там, прямой, как жердина, и с прищуром наблюдает за игрою актеров. И стоило только Титико Глонти ошибиться, как сверху тотчас летело громкое замечание. Будь Малхаз коренным харалетцем, мы бы несомненно решили, что все анонимные пьесы написаны им.
А Папико-выпивоха все посиживал под деревом, то глядя куда-то за горизонт, то вновь печально уставляясь в землю. «Как дела, Папико? — бывало, окликнет его кто. — Значит, говоришь, нам нужен человек?», «Да», — глуховатым голосом отвечал Папико. «А где же он...» — «Придет, обязательно придет». — «Придет, как пить дать, ты уверен?» — «Да, да, обязательно придет». — «А кто это тебе сегодня поднес?» — «Тетя Какала» — «А что ты ей за это сделал?» — «Промотыжил виноградник, семь рядов». «Молодец! А теперь сиди жди этого своего мужчину, только не проспи, гляди...» — «Нет, нет, как я могу уснуть...» — «Ишь как разговорился! А что сегодня у нас в театре...»
Тереза в последнее время окончательно ошалел. Ринется на чью-нибудь ограду, разнесет ее вдребезги, а потом и все до единого дерева переломает; даже перекинутое через главную реку бревно и то не оставлял в покое: поднимет, грохнет о колено и... только мы свой мост и видели. Приналег он однажды и на мраморные театральные колонны, хорошо, вовремя подоспел отец его Самсон и давай щекотать ему подмышки. Ну, тут Тереза, чуть не задохнувшись от смеха, повалился с ног. Еще слава богу, что он боялся щекотки, не то остались бы Харалети без театра. Пристав Титвинидзе прекрасно все это видел, и пьянчужка Папико удирал от его гнева в папоротники на окраине города и там тоскливо отсиживался. А однаждьи в Харалети пришел силач по ремеслу, он вел за собой быка на веревке, а из-под мышки торчал у него петушиный хвост. Собрав с людей по копейке, он посадил петуха на бычий рог, обхватил самого быка руками и, только успел, кряхтя, с великой натугой оторвать его от земли, как Тереза, подкравшись сзади, схватил этого силача в охапку и подбросил, вместе с его быком и петухом, в воздух! Петух-то бог с ним, он, покряхтывая, опустился на землю, человека Тереза подхватил на лету, а вот бык... В общем, покутили мы в тот день на славу: нам-то что — расходы все принял на себя Самсон Арджеванидзе. Тереза в тот день не упился, но нам было от этого ни холодно, ни жарко: он всегда, хоть пьяный, хоть трезвый, оставался одним и тем же. И причиной всех неистовств Терезы была, как мы вскорости узнали, женщина. Нет, кто из нас не любит женщин, кто не провожал взглядом какую-нибудь красотку, однако не без чувства неловкости, исподтишка. Тереза же — Тереза как клещ впивался глазами в женщин. Короче, еще немного, и он разнес бы в щепки наши Харалети, на волоске висела и жизнь каждого из нас, и наши кукурузные поля, марани, черешня, тута... Так ниспошли же господь всяческих благ на семью и на весь род Маргалиты Талаквадзе... Теперь Тереза мирно расхаживал по улицам, пребывал в развеселом настроении и даже, по его личному разумению, напевал, вопя во всю глотку: