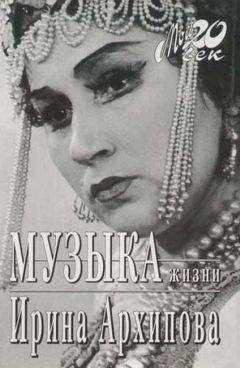Лифт остановился. Створки дверей разомкнулись. Пальто, как вошедший вторым, стоял ближе к дверям и сейчас вышел первым. Я дал ему удалиться, чтобы не тащиться хвостом, если мы и в самом деле прибыли в одно место, и покинул кабину только после того, как шаги его замерли.
Опустив портфель на пол и держа хризантемы перед грудью, будто солдат Кремлевского полка карабин в парадном артикуле, пальто жал кнопку звонка у двери, за которой, единственной из трех на лестничной площадке, мне довелось бывать прежде.
— И вы, значит, сюда же? — сказал я, подходя к нему.
Он повернул ко мне голову. В глазах его выразилось враждебное недоумение.
— Я сюда, — проговорил он. С отчетливым ударением на «я». А куда вы, меня не интересует, прозвучало в его словах.
Хорош, однако, был тип, с которым мне предстояло встречать Новый год.
На дверях, открываясь, защелкали язычки щеколд. Пальто наклонился и поднял портфель. Теперь лицо его выразило вдохновение, подходящее служащему Кремлевского полка при прохождении мимо строя президента страны.
К моему удовлетворению, дверь открыла Ира. И, едва взглянув на кремлевского бойца, бросилась мимо него ко мне:
— Ой, какие розы!
Мне пришлось поднять букет вверх, как тогда у лифта, оберегая его от хищных рук вывалившихся из кабины женщин.
— Не одной тебе! Зови женщину, старшую в этом доме. Заодно и представишь.
— Да, и Ларису тоже позовите, — подал голос пальто, указывая подбородком на свои хризантемы.
Ларисой звали Ирину сестру, теперь ее имя было мне известно.
— Ой, будут, будут сейчас все, — пропела Ира, исчезая в глубине квартиры, а мы с пальто один за другим переступили порог, закрыли за собой дверь, после чего на нас выкатилась женская лавина и погребла под собой: такой вокруг поднялся шум и гвалт, столько раздавалось восклицаний, ахов, охов в адрес роз и хризантем.
Впрочем, несмотря на сумбур вместо музыки, я сумел уловить, что мать зовут Изольдой Оттовной (ага, немецкие корни, отметил я для себя), что она явно немолода, ощутимо старше моей матери, то есть родила своих дочерей уже в возрасте, хотя весьма ухожена и свежа, и что Лариса избегает смотреть на меня, но со своим типом при этом странно чопорна и натянута. В том черно-белом мужском рое, который выставлял нас со Стасом из этого дома, его точно не было.
Глава дома объявился в прихожей подобно исполинскому валуну, запоздало снесенному общим сотрясением с вершины горы и догнавшему лавину, чтобы придать ее движению дополнительную силу и мощь.
— И сразу оба. Вместе. Это как это? А у меня сведения — даже не знакомы друг с другом! — густо говорил он, приближаясь к нам.
В нем и в самом деле было нечто от политого дождями, обжаренного солнцем, обкатанного льдами высокогорного глетчера тысячелетнего гранитного валуна: крупная круглая голова, схваченная крепким, соль с перцем, коротким ежиком, массивные покато-широкие плечи, широкая, с поднятой диафрагмой, грудь и широкий, но соразмерный общим его габаритам живот, искусно спрятанный под туго обтягивающей шелково-бархатистой, вишневого цвета жилеткой. Глаза его смотрели будто бы с живостью, но это были суровые, тяжелые глаза бездушного камня. Фамусов — тотчас назвался он у меня. Что за комиссия, создатель, быть взрослых дочерей отцом… Хотя, естественно, я прекрасно знал его настоящее имя.
— А мы, Ярослав Витальич, договорились, — сказал я.
— Как это договорились, когда не знакомы? — удивился он.
— Как не знакомы? — ответно удивился я. — Только что в лифте познакомились.
— Так! Понятно, — кивнул Фамусов. — Вы, судя по всему, Александр?
— Я — Александр, — снова поклонился я, непонятно для него делая ударение на «я» — отвечая так этому типу в пальто с хризантемами.
— А я — Арнольд, — поторопился вслед мне поклониться тип — с удивившим меня подобострастием. Все же до этого со мной он был сам арктический холод. — Везунов, — добавил тип через некоторую паузу.
Я внутри всхохотнул. «Арнольд» в сочетании со столь говорящей фамилией — кто бы удержался от смеха.
— Ярослав Витальевич! — извлек я из кармана свое «Амаретто». — Если не для употребления, то хотя бы для созерцания.
— Нет, почему, — отозвался Фамусов, вполне благожелательно принимая у меня бутылку. — И для употребления, отчего же.
Пальто по имени Арнольд, вновь опустив свой широкобедрый портфель к ногам, расщелкнул замки и, запустив вовнутрь обе руки, вытащил наружу большой, перевязанный красной шелковой лентой полиэтиленовый пакет, туго набитый березовыми вениками. Я обалдел. Пальто по имени Арнольд был тип так тип.
— Это, Ярослав Витальевич, вам как любителю парной, — протянул он Фамусову пакет. — Отец у меня тоже любитель попариться, и он считает, что лучшего подарка не может быть. Это майская береза, он ее сам ломал, сам веники вязал. От всей души.
Отец, принимающий участие в подарке… Что-то за этим крылось. Да и сам подарок. Додуматься до такого подарка — тут нужно было изо всех сил шевелить мозгами, стараться — не в пример мне. Для чего, в свою очередь, требовалось иметь весьма весомую и основательную причину.
Стол был накрыт в гостиной — куда я еще никогда прежде не попадал. Это была большая квадратная комната, обставленная тяжелой мягкой мебелью густозеленого цвета, отдающего чернотой, с потолка свисала куполообразная, двухъярусная хрустальная люстра на восемь ламп. Стояло еще высокое, довольно старое черное пианино с двумя канделябрами для свечей над клавиатурой, в углу — серебристо-металлическая елка в человеческий рост, каких я еще никогда не видел. В Клинцах у нас ставили только живые, и чем выше, тем лучше; гордились густотой елки и высотой. На однотонных, серовато-белых как бы дерюжчатых стенах висели три большие картины в золотых рамах: лесо-полевой пейзаж со стогами, куст кипящей сирени с частью дачной веранды и вид на Москва-реку с Каменным мостом и Кремлем. Между этими тремя было разбросано с десяток картин поменьше, снова, в основном, пейзажи — природа и город, — но имелось и два натюрморта, причем отличных: медный кувшин так и звенел, глиняная корчага готова была обжечь руку прохладой шероховатой плоти, полупустой штоф с вином светился своим зеленоватым стеклом с такой натуральностью, что хотелось взять его оттуда и отпробовать его содержимое.
— Любуетесь? — спросил Фамусов, заметив, что я смотрю на натюрморты. Правильно любуетесь. Моя гордость. Это один художник был, года еще нет, как умер. Никто из современных не умел передавать фактуру вещи, как он. Бедствовал, страшно бедствовал. Буквально за бесценок продавал себя. Эти натюрморты я у него купил — смешно сказать, за какие деньги. Просто задаром.
— А почему было не заплатить ему нормальную цену? — Я понимал, что задаю вопрос, на который в моем положении не имею права, и все же не удержался.
Фамусов, однако, среагировал на него абсолютно спокойно.
— Кто себя как оценивает, так и получает. Можно, конечно, оценить себя слишком высоко и не получить ничего, но это уже другое дело.
— Это называется, переоценить себя, — сказал я.
— Наверное, — согласился Фамусов. — Недооценивать себя — преступно, переоценивать — вредно. Но у тех, кто переоценивает, нередко получается внушить окружающим, что они столько и стоят. Правда, для этого нужно иметь особый талант.
— А если самооценка — точно в яблочко?
— Так не бывает. — В улыбке Фамусова была снисходительность. — Или «недо», или «пере». Об этом, Саша, весь Шекспир.
Я попытался припомнить, где Шекспир пишет о чем-то подобном, но на память мне ничего не пришло. Впрочем, в памяти у меня были только «Гамлет» да «Король Лир».
Ира, подойдя сзади, положила обе руки мне на плечо, подтянулась и положила на них подбородок, заставив меня своим весом скособочиться.
— О чем говорим?
— О Шекспире, — сказал Фамусов.
— О бедном художнике, — одновременно с ним сказал я.
— Так о Шекспире или о бедном художнике? — настойчивым голосом потребовала ответа Ира.
— О бедном художнике Шекспире, — поторопился я ответить раньше Фамусова.
Он одобрительно всхохотнул:
— Хорошо! Хорошо! Чувствуется быстрый журналистский ум.
За стол нас посадили парами: я рядом с Ирой, Лариса со своим Арнольдом. Глава семьи с хозяйкой заняли места по торцам стола. Нам с Ирой выпало сидеть на стульях, Ларисе с Арнольдом на диване, старшее поколение подкатило для себя кресла.
Для проводов старого года мне и Арнольду было предложено налить вина или водки. Арнольд выбрал белое сухое, я предпочел водку, хотя после и предстояло пить шампанское. Отец, еще только приучая меня к употреблению спиртного, преподал мне урок: восходить от слабого к более крепкому, тогда опьянение не будет тяжелым, — и урок этот был мной усвоен раз и навсегда. Но сейчас мне хотелось, чтобы меня поскорее забрало. Нельзя сказать, что я чувствовал себя в этом доме слишком уютно.