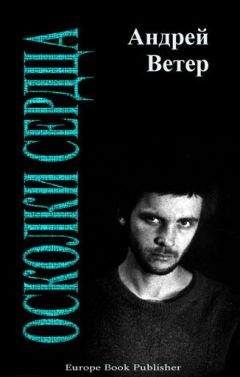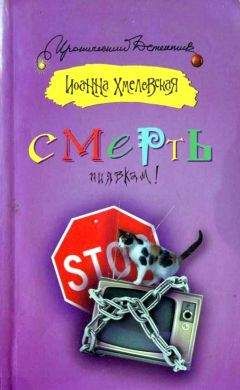Когда грянули чёрные годы перестройки, а потом и бандитизма, мы надолго потеряли Сашу из виду. Он где-то был, что-то делал, но мы не встречались и не общались. Лишь однажды я дозвонился ему с предложением сделать о нём сюжет для телеканала. Шеко колебался, говорил что-то о нравственности, и я не сразу понял, что его удерживало. Со мной разговаривал не тот Александр, которого я знал и который был готов на любые творческие подвиги. Мне вспоминается, как маленький съёмочный коллектив выдуманной, но не существовавшей на самом деле «Поглазей-Студии» периодически отправлялся в лес, иногда уезжал в Дубну на конюшню легендарного Тито Понтекорво, и мы снимали сцены из жизни Дикого Запада. Шляпы, револьверы, сапоги, перья, бороды… В одной из сцен я уговорил участвовать Шеко. Мы уехали в самый конец улицы Красного Маяка, забрели в глубокий овраг с живописно поваленными деревьями и отсняли проход двух ковбоев. Саша, застегнув на бёдрах ремень с кобурой, походил туда-сюда и сказал задумчиво: «Да, это всё не просто так… Это всё серьёзно… Тут совсем другие силы пробуждаются». Я понял, о чём он говорил: одежда нередко передаёт человеку эманации того мира, который она воплощает собой… И вот я звал его сняться для моей программы «Краски», сняться в сюжете о творчестве, сняться в роли самого себя. И Саша не согласился.
Я не настаивал, но огорчился. Позвонив Ванаеву, посетовал, что Шекончик упрямится. Женя не удивился: «Саша сильно ушёл в православие, иконы пишет. Какое тут телевидение! Ты же там можешь голых девок показать, а как же он рядом с такой темой? Нет, ему трудно сейчас»…
Прошли годы, прежде чем мы опять сошлись с Шеко. Он поменял ещё несколько стилей, выбрался из затворничества, начал понемногу участвовать в выставках. По телефону голос его звучал, как и раньше, ничуть не изменился. «Приходите на выставку», – позвал Саша. Оказалось, что выставка намечалась в выставочном зале библиотеки №27 – той самой библиотеки, где проходят семинары индейского клуба и где состоялась когда-то презентация моих первых книг. Ольгу Викторовну Озазулину, директора библиотеки, я прекрасно знал. Из разговора с ней выяснилось, что некоторое время она даже брала уроки у Саши! Да, мир удивительно тесен.
Потом мы ещё несколько раз бывали на его вернисажах. Он не утратил мастерства, научился новым тонкостям, пошёл по новому пути, осваивая совершенно другую технику и не свойственную ему цветовую гамму. Мастер никогда не останавливается. Мастер всегда идёт вперёд. Беседы с Шеко по-прежнему доставляли удовольствие. Но всё-таки это был уже не тот Саша, каким-то пугливым сделался, отдавшись православию. Чуть в разговоре забрезживали мистические мотивы, он настораживался: «Это опасно, не надо касаться этого», а если возникали эротические мотивы, он буквально открещивался.
– Саша, ты что! Мы же об искусстве говорим!
– Ну, Андрей, знаешь, искусство искусством, а все-таки… Ты вон в книге как прописал римские оргии. Я только краешком глаза заглянул в книгу, в магазине полистал её и сразу понял, какая сила. Это затягивает, это опасно. А ещё у тебя там магия и всё такое…
– Да, есть там оргии, масса голых тел. Но книга-то на самом еле о вечном, о Боге, об исканиях человеческих. С кем же мне обсуждать это, если не с тобой? Ты вон какой проделал путь, сколько поворотов сделал! Ты же лучше других понимаешь, что искусство, а что – пена.
Он кивал, довольный моей похвалой, и осторожно подключался к «скользкой» теме.
– Конечно, эротика всегда была. И сам я тоже… Ты же помнишь мои ранние рисунки… Но я же ушёл, поменялся…
Не знаю, каким Саша был во времена совместной жизни с Любой Урицкой, но мы познакомились с ним, когда он уже ступил на путь православия. Он уже рисовал храмы, но они ещё не стали центром его творчества, они составляли гармоничную часть окружающей нас природы (не городского пейзажа, не социальной жизни, а природы). Но людей на его картинах не было. Люди – женщины и мужчины – не существовали в его мире.
Трудно понять, как Саша уживался с Любой. Они были разные. Она крепко стояла на земле, она была похожа на хищника, а он стремился ввысь. Сначала высью для него был космос (как пространство), затем высью стал Бог. Люба так и осталась на земле, переключившись с искусства на детей. Творчеством для неё стали роды (один ребёнок, второй, третий) и борьба за жизнь. Саша остался художником. Плоть для него – только возможность не оборвать связующую нить с земным существованием. Он настолько мало уделял внимания пище, что довёл себя до крайней черты и однажды чуть не умер. Позже, когда мы навещали его в больнице, он с недоумением вспоминал, как потерял сознание и как сестра отправила его на «скорой» в клинику. Он до сих пор не ест, а клюёт что-то, до сих пор глотает какие-то таблетки, потому что здоровье подорвано основательно. Но ничто не сломало его творческий дух. Он был и остаётся Художником.
С Леонидом Александровичем Латыниным меня познакомил мой школьный приятель Володя Сидоров, которого все называли просто Вовочка.
В интернате Вовочка был известен прежде всего тем, что учился играть на скрипке. Его сосед по комнате тоже учился в музыкальной школе, но по классу гитары. И если гитара для нас в то время символизирована «настоящую» музыку («Beatles», «Deep Purple», «Slade» и д.п.), то скрипка не значила ровным счётом ничего. И ничего удивительного не было в том, что Вовочка, вырвавшись из-под родительского крыла, забросил скрипку подальше и взялся за гитару. В его руках этот инструмент всегда звучал прекрасно, они любили друг друга. Но Вовочка не только перебирал струны, он ещё и пел – душевно, с удовольствием. В его исполнении я впервые услышал «Арину» и «Как странно заходить в знакомый дом». Песни меня покорили.
– Очень талантливый поэт, – сказал Вовочка. – Мы с ним знакомы. Леонид Латынин. Знаешь?
Я не знал этого имени, как не знал почти никого из поэтов, будучи равнодушен к стихам.
И вот однажды Вовочка пригласил меня в какой-то институт на заседание литературного клуба.
Мы встретились на автобусной остановке близ станции метро «Каширская». На остановке нас ждал Леонид Александрович Латынин. Моросил противный осенний дождь, светили фонари, на мокром асфальте густо лежали мокрые кленовые листья. Латынин что-то увлечённо рассказывал. Услышанной информации было так много и подавалась она с таким изяществом, что я едва не захлёбывался от удовольствия. Помню, что на заседании клуба Латынин расхваливал свою дочь, восторгался её работоспособностью.
– Ни я, ни моя жена не успеваем за ней, а ведь мы профессионалы, – говорил он. – Юля удивительно талантлива.
И ещё помню, что он, представляя собравшимся Володю Сидорова, назвал его комсомольским работником. Так и было: Вовочка пошёл по комсомольской линии, делал карьеру в райкоме комсомола. Это вызвало у слушателей негативную реакцию, и Вовочка потом пенял Латынину: «Не следовало о комсомоле-то…»
Непослушные, чуть растрёпанные, седеющие, курчавые над ушами волосы, слегка удивлённые и восторженные глаза, безудержная речь – таким он запомнился в тот раз. Таким он остался для меня навсегда.
На той, первой нашей встрече Латынин рассказал мне о своём романе «Гримёр и Муза» и, узнав, что я немного рисую, предложил мне сделать иллюстрации к его книге. Через несколько дней мы встретились, и я получил на руки тяжеленную пачку зачитанных машинописных листов. Первые же строки оглушили меня. Страница за страницей я читал, проваливаясь в кошмарный, какой-то сновиденческий мир. О такой книге я мечтал давно, и вот она явилась, прорубив окно в страну поэтических ужасов. Поразило всё и не в последнюю очередь – обилие эротики, зачастую физиологичной, а иногда и омерзительной (как в сцене с дряхлыми стариками, насилующими девочку).
Рисунки у меня не получились. Только один мне понравился, он же приглянулся и Латынину («Таможенник», – назвал он его).
Когда роман был опубликован в 1988 году, на обложке стояло другое название: «В чужом городе». И у книги исчезло начало, так поразившее меня при чтении рукописи. На помещённой внутри фотографии автора виден за его спиной мой «Таможенник». Леонид Александрович очень хотел видеть в книге этот рисунок. Оставляя мне автограф, он написал: «Андрей, спасибо за Таможенника»…
Латынин обожал рассказывать о себе. Не о своей реальной жизни (встречах, поездках, работе), а о внутренней жизни. Она у него была безбрежная, насыщенная и, как должно быть у подлинного художника, она перетекала в нашу реальность. Мне доставляло огромное удовольствие слушать, и порой мне кажется, что он всегда был гораздо интереснее мне как рассказчик, чем как писатель. Как-то раз он делился своими впечатлениями о какой-то вечерней прогулке по Арбату (ну что в этом вроде бы может быть увлекательного?), и я заслушался: так много красок, так много впечатлений. И среди прочих деталей он упомянул о каком-то окне, где горел свет, на третьем этаже.