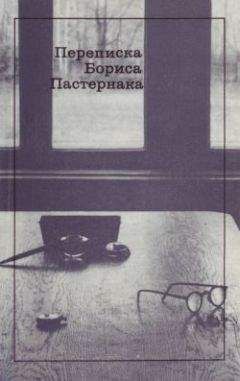Они обрели наконец способность к раздельной и членораздельной речи и, заглядывая в мамину квартиру как в западню, пытались отнекаться и сказать, что, может, не надо, а как-то бы так…
— Нет, — сказал я. — Так такие дела не делаются.
Они вошли в коридор и с неостывающей опаской стали заглядывать в комнату, где на полу валялись скомканные листы бумаги, а у батареи стояли пустые бутылки, оставшиеся после вчерашних посиделок. Надо было хоть бутылки убрать, подумал я. Однако теперь уж было поздно.
— Проходите, — дружелюбно сказал я. — У меня тут небольшой творческий беспорядок. Но Богу он не помешает о нем говорить. С чего начнем?
— А вы знаете имя Бога? — внезапно выпалила та, что пострашнее.
— Оба-на!.. — с похмельным энтузиазмом вскричал я. — Да кто же знает имя Бога?
— Мы знаем, — убежденно сказала страшненькая. — В Библии написано.
— Тогда извините за прямоту: вы какой конфессии будете?
— Мы, — не без гордости сказала страшненькая, которая, как становилось видно, была главным богословом в этой паре, — свидетели Иеговы.
— Вот и хорошо, — сказал я. — Тогда разговор у нас будет долгий. Вы чего желаете? Чайку? Кофейку?
— Мы ничего… — сказала страшненькая.
— А я бы чаю… — преодолев робость, произнесла красивенькая.
— Минуту…
Я поставил разогреваться чайник и вернулся в комнату.
— Ну, — сказал я. — Вы, значит, знаете имя Бога?
— Знаем, — сказала страшненькая.
— И можете его назвать?
— Иегова, — сказала она, торжествуя.
Черт возьми, ничего другого я не ожидал.
— Ну и что? — спросил я.
— Как это — что? — не поняла меня прозелитка Иеговы.
— Ну в самом прямом смысле — что мне из того, что Бога зовут Иегова, или Саваоф, или еще как-нибудь? Я что, начну называть его по имени? Между нами установятся близкие, приятельские отношения? Что мне в его имени?
Иеговистки нахохлились и посмурнели, сидя на краешке дивана.
Я ушел на кухню и заварил чай.
Они молча принялись его пить. Страшненькая тоже.
— А вы знаете, что скоро конец света? — вдруг так же неожиданно, как и в первый раз, выпалила она.
В этот момент я стоял у окна.
За окном простирался безблагодатный пейзаж ранней зимы. Пятиэтажные хрущобы громоздились вокруг, как облезлые чемоданы. В их крохотных оконцах с утра горел неяркий свет, озаряя бедную беспонтовую жизнь. У гаражей, выстроенных из ржавого железа и обнесенных для серьезности колючей проволокой, лаяли две собаки с огромными головами и короткими толстыми ногами выродков в третьем поколении. На задворках продуктового магазина алкаши разливали водку. С небес Иеговы на землю просачивалось чуть-чуть серенького света.
Мое похмельное настроение совершило крутой вираж. Мне вдруг стало грустно. Я понял, что прозелитка не врет. Просто высказывает то, о чем я сам думал тысячу раз.
— Конечно, — отреагировал я, глядя в окно. — Все это уродство не имеет никакого оправдания… Все это подлежит уничтожению…
В комнате воцарилась тревожная тишина. Похоже, “свидетельницы” исчерпали свои аргументы и теперь не знали, что им говорить и что делать. Вид моей комнаты не внушал им оптимизма, а то, что я немедленно согласился с близостью светопреставления, даже, кажется, напугало.
— Ну, мы, наверное, пойдем… — сказала страшненькая, которая всегда говорила первая.
— Ладно, — сказал я. Почему-то на меня напала меланхолия.
— Может быть, вам оставить журналы? — спросила страшненькая.
— Не надо, — сказал я. — А вот телефон свой вы, пожалуйста, мне оставьте, — обратился я к красивенькой. — Вас как зовут?
Та назвалась, но страшненькая вмиг поняла, что дело попахивает каким-то грехом.
— Давайте я вам оставлю свой телефон.
— Зачем?
— Ну, вдруг вам понадобится какая-нибудь литература…
— Вот я тогда и позвоню вашей подруге, идет?
Та улыбнулась и порозовела.
Страшная потащила ее в коридор и вытолкала за дверь.
— Мы будем к вам заходить! — крикнула она из безопасного далека и вызвала лифт.
Я прикрыл дверь, собрал с полу мусор и убрал с глаз долой бутылки.
Эйфория похмелья закончилась, приближался час расплаты. Иегова сурово поглядывал на меня с небес своим недремлющим оком.
Прошло много времени. Свидетельницы Иеговы больше ни разу так и не заглянули ко мне. Похоже, сочли неперспективной для своей пропаганды кандидатурой. Красивенькую я встретил как-то весной на Звездном бульваре. Она везла коляску с девочкой лет двух и не узнала меня.
Пахло тополиной смолой, березой, молоденькой травкой. Конец света откладывался до зимы.
Хулиганы… Это история моих сорока лет. Не детства, нет. В детстве — которое я, как и всякий нормальный ребенок, родители которого припаханы на работе, провел во дворе — хулиганы, конечно, были: Мороз, Семе2на, Роха, и нам даже порой доставалось от них, но в целом-то жили мы дружно, ходили в одну школу, вместе пробовали курить… Они не играли с нами в наши игры, всякие там прятки, жмурки и казаки-разбойники, они сидели в другом измерении двора, возле голубятни, со взрослыми, как будто знали, что жизнь у них будет не сахарная, в которой не до игр, зато будет много табачного дыма под потолком, водка в граненых стаканах, тяжелая, как у отцов, работа, крики жены…
А в сорок лет я столкнулся с хулиганами напрямую. Я думал, что еще молод, силен и ловок — а значит, мне ничего не грозит. Я, до встречи с ними, честно говоря, и не задумывался о своем возрасте. Мне и в голову не приходило, что эти щенки из подмосковных поселков могут быть и сильнее, и быстрее меня, а главное — беспощаднее. Я думал, они такие же, как хулиганы нашего двора, — двадцать пять лет назад. Я не учел, что они выросли в эпоху блокбастеров.
Короче, однажды я предпоследней электричкой ехал с дачи в Москву. Какая-то нелегкая занесла в этот час в этот вагон еще четырех девчонок лет пятнадцати. Больше никого не было. За окном катился грохот колес и ночная тьма. Потом откуда-то, громыхнув дверьми тамбура, появились они. И сразу подвалили к этим девчонкам. Мне не понравился вид этих парней. Я увидел, что девчонки вдруг побелели от испуга. Я услышал, как один из них резанул матом:
— Не вые..., б....
Я вспомнил, что через два-три года моя старшая дочь может оказаться на их месте.
Я встал и сказал с улыбкой: джентльмены, что же вы так неласково обращаетесь к девочкам?
Я рассчитывал на свое обаяние, на их чувство юмора, на их благородство, наконец. Я никак не ожидал, что случится то, что случилось.
Они обернулись ко мне и только спросили:
— Что?!
Если бы этот вопрос можно было бы написать с маленькими вопросительным и восклицательным знаками на конце, то так и следовало бы сделать: в нем едва-едва промелькнула тень удивления и презрительного недоумения. А потом меня стали бить. Я никогда не испытывал ничего подобного: били по голове со скоростью примерно четыре удара в секунду. Я не мог ни встать, ни ударить в ответ, только чувствовал, как сыплются удары и чьи-то руки выворачивают мои карманы.
О-о-о, как я заорал, когда град ударов вдруг прекратился и они бросились прочь от меня! Я бежал за ними, я знал, что в поезде им не скрыться от меня, что каждого по отдельности я догоню и порву, как бумагу…
Увы, они были хитрее: просто-напросто выскочили на остановке. Двери за ними закрылись, и поезд вновь ударился в ночь.
Я вернулся в вагон. Девчонок уже не было. Выходит, девчонок я спас. Что мне не удалось уберечь — так это свою голову: сколько я ни закрывал ее руками, сколько ни прятал в колени… Даже не представляю, как им удалось подбить мне оба глаза, разбить губу и бровь. Я поглядел на свое отражение в темном окне. На меня смотрела совершенно зверская, уголовная, заплывшая рожа со стекающей по щеке каплей крови.
Милицейский патруль на подступах к Москве, оглядев меня, потребовал сначала билет, а потом документы.
Они посмотрели на меня, потом на фотографию в паспорте.
— Не пьяный, — сказал один патрульный другому.
Тот вернул мне паспорт:
— Все в порядке.
Сейчас, тьфу, тьфу, тьфу, хулиганы уже не пристают ко мне. Видимо, что-то запечатлевается на лице, когда за одно лето тебя изобьют четыре раза. Сейчас ко мне липнет тяжкая грязь взрослого мира, и надо научиться как-то обходиться с нею, надо решить для себя, играю я в эти игры или нет. А если нет, если я желаю остаться чистым — то чем я заплачу за это? Теперь ведь не только драгоценная душа моя, которую когда-то не уловили ни гомосексуалисты, ни свидетельницы Иеговы, которую даже хулиганы не затронули, начисто раскроив мне рожу, стоит на кону игры, но и благополучие близких, мое собственное благополучие и целостность, возможность работать без дерготни, жить хоть мало-мальски по-человечески… Чем дальше заходит игра, называемая жизнью, тем крупнее ставки: так было, так есть и так будет во веки веков. А выбор — он всегда за тобой. Лично за тобой. Никаких “обстоятельств” не существует. Я бы мог рассказать про это, да боюсь, что это не тема для записок на полях: скорее для внутреннего какого-то решения.