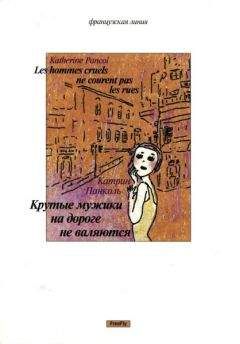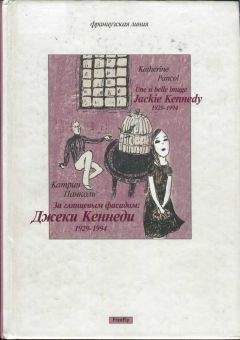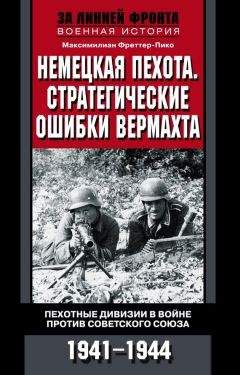Сегодня вечером у меня нет выбора. Старые башмаки сочетаются исключительно со старыми штанами. В любом случае, стараться я нынче не намерена: мне предстоит не свидание, а встреча с благодетелем.
— Так что ты решила? — спрашивает Бонни, нетерпеливо постукивая пальцами по краю раковины. Мое молчание действует ей на нервы.
— Не знаю. Видишь, что с ногой? Я споткнулась, задела за край тротуара. Теперь трудно что-то подобрать.
С этими словами я демонстрирую пострадавший палец, надеясь, что Бонни, располагая всеми необходимыми данными, придет к тому же выводу, что и я. Она с глубоким отвращением смотрит на мою ногу и, глядя на меня, как взрослый человек на неразумное дитя, подтверждает, что с такой раной действительно трудно что-то подобрать, после чего теряет ко мне всякий интерес, поднимается с унитаза и уходит к себе.
Когда Алан звонит в дверь, я выхожу навстречу ему в старых башмаках без каблуков, серых штанах, длинном сером свитере и мужском плаще. Ни попка, ни грудь в таком наряде не просматриваются. Я не соблазнительница, я уклонистка, спокойная и улыбчивая.
Душа — на месте, точнее, некое подобие души. Она не смоталась только потому, что предстоящее свидание — туфтовое, и все-таки заметно, что она нервничает: дрожит, мечется, норовит окончательно меня покинуть. Я пытаюсь ее успокоить, считаю про себя: 24, 25, 26, 27… а потом опускаю глаза и вижу свои изъеденные пятновыводителем ногти, искалеченную ногу и нелепый наряд во всей их красе.
Алан не обращает на меня особого внимания. Он садится на белый диван рядом с Бонни, берет бокал. Как бы мне хотелось закрыть глаза, броситься к нему, ухватиться за ремень его брюк и спросить: «Ну что, куда пойдем?» Я пытаюсь держать себя в руках. Сажусь на диван напротив, кривясь от боли, кладу ногу на ногу, чтобы, не приведи Господь, невзначай не сорваться с места. Бонни как бы между прочим включает музыкальный центр, разряжает обстановку.
Я стараюсь казаться невозмутимой и исподтишка разглядываю Алана.
Он что-то рассказывает. Лицо скрывается за бокалом, за ослепительной улыбкой. Блестят густые черные волосы, длинные пальцы сжимают бокал, длинные ноги… О, как я жажду ощутить прикосновение этих стройных ног. Я представляю их голыми, переплетенными с моими в постели. Эти ноги должны принадлежать мне. Я вдыхаю его аромат, продвигаюсь выше, утыкаюсь носом в густую растительность на груди, тянусь губами к его губам, принимаю его язык… О, как я его хочу!
Он не смотрит в мою сторону, и пока меня это устраивает. Не обращай на меня внимания! Дай вдоволь наглядеться на тебя, всласть намечтаться, представить себя в твоих объятиях, мысленно целовать тебя до беспамятства.
Я едва понимаю, о чем они говорят. Смотрю на них отрешенно, издалека. Мне вдруг приходит в голову, что сейчас я переживаю лучшие мгновения этого вечера, потому что потом неизбежно придется что-то из себя изображать, подавать ответные реплики и мечтать я уже не смогу.
Наконец Алан снисходит до меня. Он поворачивается в мою сторону, и я вдыхаю его запах — аромат чистой кожи и легкой туалетной воды, смесь лимона, сандала и, возможно, лаванды. Этот запах так сильно меня возбуждает, что я задерживаю дыхание, даже прошу Бонни налить мне виски, чтобы перебить дразнящий аромат. Хорошо еще, что она тарахтит без умолку и хохочет, откинув голову назад. Обычно я не понимала, почему Бонни Мэйлер так громко смеется, причем без всякого повода. Смех подобно точке завершает каждую фразу. Вероятно, таким образом Бонни демонстрирует окружающим, что у нее все о’кей, она здорова и счастлива. В этот вечер она смеется чаще и громче обычного. Ха-ха-ха! Я решаю последовать ее примеру. Ха-ха-ха! С непривычки у меня получается хуже, чем у нее! Не в кассу. Я слышу свой смех как бы со стороны, и звучит он по-идиотски. Кажется, что смеюсь не я, а какая-то посторонняя девица, глубоко мне противная, зато легко нашедшая общий язык с Бонни Мэйлер. Каким-то образом я внезапно превращаюсь в Кретинку, ржу как лошадь и несу всякий вздор. Устав смеяться, я замолкаю и пристыженно опускаю голову. Что общего между мной и этой смешливой дурехой? Почему я не могу быть просто самой собой? Хотя, возможно, с Бонни Мэйлер можно общаться только так, по-другому она не понимает.
Мне становится совсем грустно.
И вот настает минута, когда Бонни, взглянув на часы, объявляет, что нам пора. Я чуть было не предложила ей пойти с нами: все равно ведь свидание липовое, но вовремя опомнилась. Бонни ужасно разозлится. Роль дуэньи явно не входит в ее планы. Она решительно подталкивает нас к двери и желает приятно провести вечер. В эту минуту звонит телефон, поэтому прощание получается смазанным.
— Привет! — заворковала Бонни, и дверь захлопнулась.
Уолтер молча пропускает нас к выходу, глядя на меня с гордостью и даже, как мне кажется, с сознанием выполненного долга. За спиною у Алана он поднимает кверху указательный палец, давая понять, что одобряет мой выбор. Неужели Уолтер с ними заодно? Значит, тоже втайне жалеет меня? Я опускаю глаза, смотрю на свои безобразные ботинки и думаю о том, что в эту минуту вид у меня, должно быть, чрезвычайно жалкий. Я прихожу в ярость, проклинаю весь мир. Да, я хочу страдать, но без постороннего вмешательства. Не выношу слащавого сочувствия и лицемерной жалости. И вдруг мне захотелось удрать от Алана, собрать вещи и переехать в ночлежку с Иовом на тумбочке. Тем временем Алан интересуется, не больно ли мне идти. Он любит бродить по ночным улицам. Взяв себя в руки, я отвечаю, что идти мне не больно.
Я тоже очень люблю бродить ночью по Нью-Йорку. Найковицы уже расшнуровали кроссовки, банкиры отключили компьютеры. А на улице остался невостребованный товар: лишние люди, романтики и бродяги, бредущие по грязным сверкающим лужам, беседуя сами с собой. И только машины скорой помощи с озабоченным видом мчатся по магистралям. В этот час вода по канавам устремляется вниз, а на тротуар высыпают последние ковбои. Они пьют пиво и вспоминают старые добрые времена, когда мнили себя победителями и наивно лелеяли великую американскую мечту.
— Ты когда-нибудь бывал в Москве? — спрашиваю я у Алана.
— Нет, — отвечает он.
— В Москве тоже много небоскребов. Они похожи на здешние. Не на современные, конечно, а на те, что постарше.
— Наверное, построены в то же время.
— Да, вероятно.
— Правда, там строили совсем другие люди… — добавляет Алан, проводя четкую границу между двумя странами, свободной и тоталитарной.
— Знаешь, иногда мне кажется, что разница не так уж велика, — я намеренно произношу эту фразу громко, чтобы он не смог пропустить ее мимо ушей. Ничего не могу с собой поделать.
Алан замедляет шаг, напрягается, удивленно смотрит на меня. А я продолжаю в том же духе:
— Видишь, какая штука… Там люди теряют человеческий облик из-за коммунизма, а здесь — из-за звонкого доллара. Доллар ставится во главу угла: зарабатывай или подыхай. Вступай в партию и живи припеваючи — или вкалывай по-черному. Похожая логика, не находишь?
Сам напросился. Я зла на весь мир. И не нуждаюсь в жалости. В порыве вдохновения, преисполнившись гордости, я продолжаю:
— Иногда мне кажется, что, живя здесь, я стану коммунисткой.
— Почему? — недоумевает Алан. — Тебе что, не нравится Америка?
— Раньше очень нравилась. А теперь — нет, не нравится.
— Когда это — раньше?
— Ну, раньше…
Когда мир захлестнула голливудская мечта… дикие прерии вестернов, Джимми Стюарт, Фрэнк Капра. Бесстрашные ковбои боролись за справедливость, защищали бедных, открывали новые звезды.
— Ты слышал, что сыновья Хемингуэя продали свое имя фирме, которая производит одежду для сафари и охотничьи ружья. Ты знал об этом?
— Нет, не знал. Тебя это шокирует?
— А тебя разве не шокирует?
— Скажи, почему ты сюда приехала?
— Потому что здесь не остается времени на раздумья. Мне надоело думать. Во Франции все думают, думают, доводят себя до полного идиотизма. Толкут воду в ступе и при этом считают себя интеллектуалами. Путают божий дар с яичницей!
— Послушай, — интересуется Алан, заметно повеселев, — тебе вообще хоть что-нибудь нравится? Ты критикуешь все на свете. Сразу видно, что ты француженка.
— Зато я не строю иллюзий. Вот вы, американцы, прете напролом, как танки, пышете энергией. А к чему? Что вы производите? Доллары! Это единственное, что вас интересует! И как вам не надоест такая жизнь!
Он ускоряет шаг, я едва за ним поспеваю, подволакиваю ногу, вскарабкиваюсь на тротуар, чтобы быть одного роста с ним, не рассчитываю, задеваю больной мизинец, всхлипываю. Останавливаюсь, глубоко вздыхаю, с трудом сдерживаю слезы. Алан, не замечая моих мучений, стремительно движется в направлении ресторана. Я уже бывала в этом заведении. Ресторан называется «Четфилдс». Найковицы забегают сюда после работы, расслабиться в компании себе подобных. Грызут зеленые оливки и пикули, пьют «Маргариту», посматривают на джентльмена за соседним столиком, пытаясь понять, годится ли он в качестве кавалера на одну ночь. Им ведь иногда тоже хочется потереться кожей о кожу, а утром как ни в чем не бывало окунуться в стремительный ритм большого офиса. Интерьер ресторана выдержан в пастельно-розовых тонах, шеф-повар, разумеется, француз, карта вин — богатейшая. Обшивка стен изысканна, гравюры — в английском стиле, свет ламп — рассеянный. За одним столиком шеф кадрится к секретарше, за другим — юный менеджер выделывается перед своей шефиней, которая, массируя под столом икру левой ноги, прикидывает, стоит ли игра свеч.