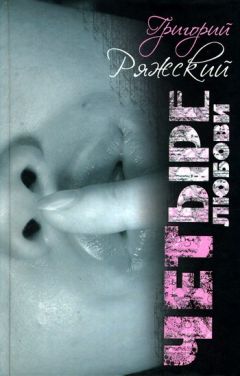— Нет проблем, Любовь Львовна, — успокоил ее Генрих, внутренне довольный тем, что может услужить мучительнице по пустяку. — Все сохраню, давайте, голубушка.
Вдова запустила руку под халат и вытянула оттуда круглую металлическую коробку из-под монпансье, образца примерно конца пятидесятых. Генрих помнил эти коробки и коробочки с давних пор, со своего детства. Еще будучи пацаном и получая в подарок такой гостинец — тогда это еще называлось ландрин, — он долго не открывал упаковку, оставляя лакомство на потом. А когда, наконец, откидывал круглую крышку, то выяснялось, что разноцветные кисло-сладкие кругляши слиплись в один большой и толстый пупырчатый блин. Он разбивал его молотком и собирал осколки, крупные и почти в пыль, тоже разных лакомых цветов, и не менее вкусных, но обратно они уже не помещались, и тогда он запихивал в рот то, что не влезло, нетерпеливо разжевывал и, закрыв от наслаждения глаза, долго-долго сосал…
Коробка была перетянута свалявшимся от времени бинтом, крест-накрест. Круглый торец ее был по всей окружности залит толстым слоем сургуча. Геник попытался засунуть ее в карман, однако туда она не втискивалась, и тогда он просто сунул ее за пазуху, подтвердив серьезность сохранных намерений. «Главная шестерня» облегченно вздохнула и развернула плакат с оперным горбуном:
— Ну теперь давай поглядим, голубчик, что ты мне принес. Какое либретто, говоришь, Квазимодо?..
Через три дня после дня рождения Любы Маленькой Любовь Львовна не вышла из опочивальни ни к завтраку, ни к обеду. Зная о неврастенических проявлениях свекрови, особенно участившихся за последний год, ни Люба, работавшая в Левином кабинете с самого утра, ни Лев Ильич, поздно вставший и перешедший после завтрака в гостиную, чтобы не мешать жене, не посмели побеспокоить мать вопросами о самочувствии, дабы не получить очередную отповедь о притворстве родни. Первым забеспокоился Лева, когда понял вдруг, что за все это время владычица не позвала его ни разу обычным призывным криком, и тогда он к ней заглянул. Голая Любовь Львовна в одном приспущенном шелковом чулке рассеянно и молчаливо бродила по полутемной спальне, натыкаясь на предметы обстановки. Каждый раз, сталкиваясь с очередным препятствием, она внимательно исследовала его на ощупь, пробегая руками снизу вверх и как бы убеждаясь в непригодности его в качестве искомого предмета. Под ногами у нее, на полу, валялись три скомканные бумажки, Лева потом прочел их и выбросил, потому что ничего не понял из записанной матерью бессмыслицы. Там было начерчено старческими каракулями: «Комод сверьху… У Илюши, четьверьг… Левая штора — булав…»
В хрустальной вазе, стоявшей на полу, налито было немного темной жидкости, впоследствии оказавшейся фамильной мочой. Таким образом. Лев Ильич стал первым свидетелем сумасшедствия Любови Львовны Казарновской-Дурново, собственной матери. Врачи потом объяснили, что это был инсульт, и, если бы сразу посадить больную на внутривенную капельницу с тренталом, то последующих паралитических осложнений, которые в результате она приобрела, можно было бы избежать. Хотя…
— А бабанька теперь все время писаться будет? — спросила Маленькая у Любы. — Ф-ф-у-у…
Левы тогда рядом не было, но если бы был, она не спросила бы. Знала, что отчим поймет правильно, но расстроится…
Узнав о беде, позвонил Горюнов, но не утешил. Больница, сказал, в ее случае — скорее всего для самоуспокоения, сделали и так все, что надо. Для нее важнее качественный уход, хорошие лекарства и пребывание дома с сиделкой на первых порах.
В Боткинскую ее все-таки отвезли. Лева мотался каждый день, на ночь его подменяла тамошняя сиделка. Возвращался уставший, мрачный, Люба старалась его не расспрашивать лишний раз, если сам он того не хотел. При выписке врач неопределенно пожал плечами: ну что вы хотите, хуже бы не было…
На «Аэропорт» сиделку решили не брать, с деньгами в семье был обвал, и первые три месяца стали для супругов особенно тяжелыми. Любовь Львовна мочилась под себя, постоянно делала попытки собрать вещи и куда-то ехать, переезжать, и несла бред в таких необычных формах, что Лева порой стеснялся собственной жены и находил разнообразные предлоги, чтобы максимально вывести Любу из зоны санитарной опеки. Любаша приходила по выходным и мыла старуху капитально, с долгим сидением в ванне, поливанием из шланга и одними и теми же разговорами о самом дорогом в жизни — блокаде и переправе через Ладогу в сорок третьем. Каждый раз, накупавшись вдоволь и набрызгавшись, старуха интересовалась у Любаши, кто она такая и не знает ли, как там у Горюнова продвигаются дела. Любаша каждый раз представлялась с подробным изложением семейных деталей и одновременно обещала все выяснить про Горюнова.
Маленькая в делах по уходу за бабаней участия не принимала, но, правда, и не могла: учеба забирала все ее время. Шуточек по поводу случившегося она, естественно, не отпускала, видя, как корячится Лев Ильич и переживает менее вовлеченная в процесс мать, но и сострадания к бабушке, на которое Лева тайно для себя рассчитывал, он в глазах падчерицы тоже не обнаружил.
Дальше стало полегче, а к началу лета, к Валентиновке, — почти совсем нормально. Любовь Львовна не поднималась, но активничала вовсю и имела хороший аппетит. Лева у нее после лопнувшей в голове жилки остался сыном Левой, Люба — его женой, невесткой, Любаша — доброй самаритянкой без имени, но в больших очках и с удивительно мягкими руками. Маленькая ненадолго стала ее матерью, Леокадией Дурново, в девичестве — Леокадией Альтшуллер, младший Горюнов — старшим Горюновым, а Генечка — малознакомым соседом Эрастом Глотовым, Толиковым отцом. Но о нем она почти не помнила и не упоминала в бесконечных разговорных путешествиях по замкнутой траектории своих воспоминаний. И все же единственными участниками ближнего круга, прибиться которым к этим путешествиям не удавалось никаким краем совершенно, стали покойный муж Любови Львовны, Илья Лазаревич Казарновский, драматург-классик из недавнего прошлого, автор знаменитых «Рассветов» и спутник всей ее жизни и кот Мурзилка… Что же касалось всего прочего, то смысл предметов и слов, начиная с определенного момента, начал укладываться в голове ее в нужном направлении и, как правило, совпадал с предназначением того и другого. Исключением являлось все мокрое — оно всегда было из Ладоги: вода ли из поильника, лекарство ли из глазной пипетки или же влажная тряпка.
…Этой ночью, уже после того как Люба Маленькая, хлопнув дверью глотовского джипа, вернулась на дачу, разделась у себя там, за стенкой, и затихла, Лев Ильич так и не смог нормально уснуть и долго еще ворочался с боку на бок. Сегодня вечером, когда он обнаружил у матери заметные положительные сдвиги в функционировании сознания, это порадовало его и одновременно озадачило, потому что надежды на избавление от паралича нижних конечностей не было и не могло быть в любом, самом благоприятном случае развития болезни. Так сказали врачи сразу после снимка, в этой части они понимали и были уверены. Просто крохотнейший фугас, взорвавшийся в голове Любовь Львовны, задел Зону, ответственную за глупость и ум, самым краем взрывной волны, оставив возможную починку этой области на будущее. Что же касается самой точки разрыва, то она пришлась как раз на сосудик, от которого нужные провода сигналили в ноги, в те самые материнские ноги, которые Лев Ильич, обреченный теперь на ежедневную сыновью заботу, укутывал со всех сторон одеялом, легким — днем и потеплее — на ночь, подтыкая его сползающие края поглубже внутрь. Он представлял себе мать совершенно выздоровевшей выше нижних конечностей, то есть продолжающей лежать или полулежать в постели, но при этом — с вернувшейся к ней без потерь зловредностью, усугубленной новым положением в семье.
«Ладно, поглядим, как пойдет… — успокоил он под утро самого себя, — как случится, так и будет…» — Он посмотрел на часы, был пятый час.
«Надо воспользоваться, — подумал Лев Ильич. — Когда еще сумею в это время…»
Он поднялся с кровати, накинул рубашку и, выйдя из спальни, пересек верхний второй этаж дачи. С противоположного края дома был эркер и оттуда хорошо просматривался восток. Он постоял пару минут, продолжая думать о матери, как вдруг оранжевый шар, взявшись ниоткуда, воткнулся снизу в небо, и небо в ответ на это природное вмешательство тут же вылило розовое, как и раньше, как и всегда, от края до края, густое поначалу, затем бледнее, еще бледнее, а уж потом просто никакое, утреннее, переходящее потом в дневное…
Лев Ильич постоял еще немного, пока не угасли остатки зари, самой первой, розовой, вернулся обратно в спальню, лег и заснул крепким сном.
Люба приехала во втором часу. Он сразу заметил, что что-то не так и не стал пока сообщать жене о своих вчерашних открытиях насчет матери.