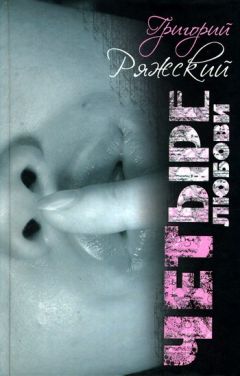Люба приехала во втором часу. Он сразу заметил, что что-то не так и не стал пока сообщать жене о своих вчерашних открытиях насчет матери.
— Пойдем погуляем, — странным голосом обратилась она к Леве и взяла его под руку. Они медленно двинулись в глубь участка, по направлению к небольшому летнему домику, скорее, даже не домику, а постройке под крышей, но со стенами и дверью, где Лева иногда любил ночевать, будучи еще школьником, когда выпадало жаркое лето.
— У меня обнаружили нехорошие клетки, — глядя прямо перед собой, тихо сказала Люба. — При биопсии груди. — Она подняла на него глаза. — Я недавно нащупала отвердение ткани на старом месте, но не хотела тебе говорить раньше времени. Теперь хочу…
Лев Ильич открыл рот, но слова не выходили:
— Ты хочешь с-сказать… — заикнулся он.
— Левушка… Это рак. Горюнов сделает все, что в его силах, но…
У Левы опустились руки. Он споткнулся и опустился на землю. Люба села на траву рядом с ним.
— Надежда есть? — спросил он, глядя прямо перед собой.
— Нет, — твердо ответила жена. — Это вопрос времени… — Глаза ее наполнились слезами, и, не умея их больше сдержать, она тихо заплакала и прижалась к мужу лицом.
— Боже… — произнес ошеломленный Лев Ильич. — Господи Боже мой… Почему?..
В горюновский Центр после операции Маленькая и Лев Ильич ездили к Любе попеременно. Чтобы бабка не оставалась одна, Любаша взяла отпуск и переехала к Казарновским на дачу. Собственно говоря, с неплановым отпуском все устроил сам Горюнов. Он же и резал повторно, он же сразу после этого и организовал месячный курс химиотерапии.
Несмотря на страшную болезнь, РОЭ, лейкоциты и другие показатели крови держались пока близко к норме. Горюнов тоже заходил почти ежедневно.
— Может, образуется как-нибудь, а? — спросил Лева друга семьи, когда они в один из послеоперационных дней вышли в коридор вместе. — Рассосется?
— Лев Ильич, я бы не рассчитывал. Чудо будет, а я врач. Я в чудеса не очень верю. Я анализы видел.
— Сколько осталось? — Лева посмотрел на хирурга с тоской в глазах.
— Месяцы… — твердо ответил Горюнов. — Месяцы…
Через два дня после этого разговора в Валентиновку заехал Геник. Сначала он заскочил к Толе Глотову, а затем появился у Казарновских. В это время Любаша выкатывала Любовь Львовну на веранду. Та, увидев Генриха, растерялась:
— Эраст Анатольевич, мы сейчас не можем. У Ильи повесть на выходе и на подходе роман. И самовар не работает, — она повернула голову к Любаше. — Катимся, деточка, катимся отсюда…
Генька посмотрел вслед парализованной небожительнице без сожаления, скорее даже с облегчением:
— Шестерня сломалась, а редуктор пока крутит. Ну-ну…
Лев Ильич не понял и значения словам не придал:
— Что у тебя с этим? — Он кивнул на соседский забор: — Снова за старое?
Геник вяло отмахнулся:
— Кончай нотации, прокурор. Мне осенью шестьдесят, таких уже не сажают, у них естественная смерть раньше суда получается. С Любой как?
— Держится, но все знает точно. Как все мы.
— И Маленькая? Тоже правду знает?
— Гень, ну я же сказал, тоже как все.
— И что она?
— Без истерик. Жалко до смерти. Всех жалко: Любу, Маленькую, себя жалко. Даже этих обеих, — он кивнул на удаляющуюся пару с каталкой, — тоже жалко по-своему. А мать, я чувствую, тоже знает. Но в этом состоянии понять невозможно, она не все может сказать еще, что хочет. У нее сейчас жизнь по-новому заваривается. Что-то там такое происходит. — Лев Ильич вздохнул. — Ты вот только крепко оттуда выпал. Крепко сидел сначала, а потом крепко выпал.
Генрих закурил:
— Сколько осталось?
— Месяц… два… Может, немногим больше…
Генрих положил руку Леве на плечо, глубоко затянулся:
— Старик, я не знаю что нужно говорить в таких случаях.
— А я никаких слов и не жду ни от кого. От нее самой только, может быть. Больше ни от кого…
Утром Лев Ильич засобирался к жене в Центр. Он хотел успеть до сеанса химии. Любовь Львовна заорала в тот момент, когда он уже заводил «Жигули». Лева выключил зажигание и вернулся в дом, в спальню матери:
— Да, мама. Звала меня?
Мать посмотрела на сына строго:
— А почему ты не удосужился мне сообщить, что моя каталка — наша Любаша? Я сама вынуждена узнавать от нее эту новость. В чем дело, Лева?
— Да ни в чем, мам. А тебе разве плохо с ней? — переспросил он, удивляясь в очередной раз могучему прогрессу материнского разума. — Что-нибудь не так?
Любовь Львовна широко улыбнулась и расцвела. Лева понял, что все предыдущее было розыгрышем, наоборот, она продолжала улыбаться.
— Мне с ней отлично. Просто великолепно! У нее такие мягкие руки. Зачем она не жила с тобой раньше?
— Мам, она не со мной не жила, она никогда с нами не жила после развода. Это было ровно четверть века назад.
Старуха надула губки:
— Левушка, нам надо жить с Любашей. Тебе и мне.
— Мам, не говори глупости, — он раздраженно взглянул на часы. — Як Любе опаздываю.
— К Любе? — удивленно поведя плечами уточнила Любовь Львовна. — А где она. Люба? Где? — Мать оглянулась по сторонам настолько, насколько позволила развернуться верхняя часть полупарализованного туловища. — Люба твоя ко мне не ходит, ко мне Любаша ходит наша, а Любы нет нигде. Нету!
Лева понял — еще немного, и он сорвется. В висках пару раз стукнуло и гулко отдалось вниз. Он собрался еще что-то сказать, но махнул рукой и резким шагом вышел из спальни…
Когда он влетел в палату к жене, до процедуры оставалось еще минут двадцать.
— Успел! — Он присел к ней на кровать и поцеловал в щеку. — Как ты?
Как она — он мог бы не спрашивать. Люба полулежала бледная, видно было, что ее подташнивает.
— Ничего, — тихо сказала она и слабо улыбнулась. — Голова немного кружится, а так ничего. И анализы снова хорошие, и РОЭ, и лейкоциты, и чего-то там еще. Даже Горюнов удивляется. Собирается цитологию повторно провести.
Лева воспринял эти слова по-своему, и в этот момент у него один раз сильно дернулось за грудиной. От этого сердце резко сжалось, потом, наоборот, разбухло и уперлось в ребро. Он вспомнил, что нечто похожее он когда-то уже ощущал, кажется, тогда еще Глотов был рядом. Или Грек. Но было это во сне или наяву, он вспомнить теперь уже не мог, он неотрывно смотрел на жену, не чувствуя боли, а просто мимолетно вспомнив о ней…
Волосы Любины заметно поредели, добавилось и седины, и он увидел, как сквозь пряди проскальзывает бледная кожа, такая же бледная, как и цвет лица. Она заметила, что он увидел. И он обнаружил, что она заметила, как он увидел…
— Левушка… — Она взяла мужа за руку, и Лева почувствовал, как постукивает маленькая кровяная жилка на руке. Но снова не понял: на его или на Любиной. — Я хочу, чтобы Любаша осталась с тобой… Когда… Когда все закончится… — Он не мигая уставился на жену, но не сделал попытки ее остановить. — Мне так будет легче, если я буду знать, что она осталась с вами… И тебе тоже будет… И маме… — впервые за много лет она назвала свекровь мамой, и Лев Ильич не мог этого не услышать. — Она хорошая, Любаша твоя, я давно это знаю, очень давно… Она всем вам будет нужна, вот увидишь… — Люба сделала усилие и сглотнула. — И она… Она тебя все еще любит, я знаю… А Маленькая… А Маленькая уже большая теперь. Она справится со всем. Она сильная стала, ты знаешь, я с ней тоже о Любаше поговорю… — Люба с трудом поднялась. — Мне пора. Проводи меня… — Она снова посмотрела на Леву, глаза ее затянуло влагой. — Пообещай мне…
— Обещаю… — растерянно ответил Лев Ильич. — Если тебе так нужно…
В Валентиновку он вернулся на следующий день, ближе к вечеру. Любовь Львовна сидела в кресле-каталке на веранде, уставившись в телевизор и не выпуская пульта из рук. Там были новости, и Лев Ильич отметил про себя, что у матери с каждым днем появляется все больше и больше вариантов оттянуться на чем-то, кроме родни. На всякий случай, чтобы не быть замеченным, он обогнул дом слева и зашел с восточной стороны, из сада сразу на кухню. Любаша стояла у плиты и что-то готовила.
— Любовь Львовна! — крикнула она в сторону веранды, не поворачиваясь от готовки. — Белый корень добавлять в суп? Вам можно?
Звук телевизора убавился.
— Я предпочитаю сельдерей! — крикнула старуха. — От него выше тонус!
— Тогда не класть? — крикнула Любаша.
— Клади! — крикнула старуха. — Но сельдерей пусть всегда в доме будет!
— Договорились! — крикнула Любаша. — Я теперь куплю!
Идиллия просто… — подумал Лев Ильич с внезапной злостью. Он, конечно же, понимал, что бедная Любаша, став не по своей воле заложницей семейства Казарновских-Дурново, ни в чем не виновата: ни перед ним, ни перед Любой, ни перед его матерью. Разве что в доброте душевной в сочетании с собственной глупостью и невезухой…