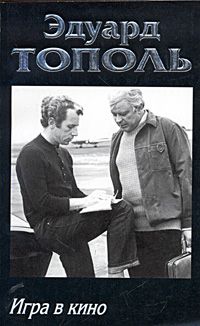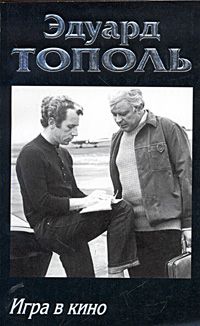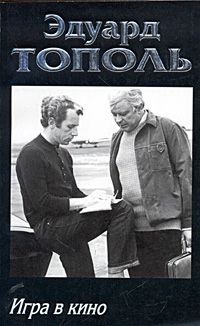Глава 2
Мой одесский роман, или Два с половиной провала в начале карьеры
Конечно, я помню ее имя, но здесь назову ее просто Олей. И еще пару имен и фамилий я заменю в этой истории. Зато я не скрою от вас ничего остального – вплоть до интимных подробностей. Как раз вчера я прочел, что «память человека сохраняет все, что когда-либо он видел, слышал или думал… и за 60 лет жизни человек получает и хранит от 10 в семнадцатой степени до 10 в двадцатой степени бит информации…» Правда, ученые никак не могут установить где мы эту информацию храним – по их подсчетам, клетки нашего мозга могут с трудом вместить лишь половину этого объема. Однако стоит любого из нас погрузить в гипнотическое состояние, как мы можем с поразительной достоверностью вспомнить мельчайшие события, происшедшие с нами десятки лет назад, а порой и события, которые случились даже не с нами, а с нашими предками!
Но я не собираюсь ждать, пока ученые найдут эту тайную кладовую нашей памяти в каких-нибудь загадочных нейронах, в ДНК или в так называемом «морфогенетическом поле». Потому что мой одесский роман я храню куда ближе…
…Да, я помню ее тело – тонкое и гибкое, как у молодой ящерицы, прохладно-шоколадное, как эскимо, и знойное, как южный ветер в Эйлате. Я помню ее миндальное лицо, ее эмалево-черные глаза, ее тяжелые медные волосы, ее сухую, как парусина, кожу, пахнувшую хной и черноморским озоном, ее теплые карминные губы, маленькие жадные зубы и шумное, с пристоном дыхание без единого внятного слова даже в самые безумные моменты нашей короткой любви.
Дело было в Одессе в знаменитое холерное лето 1971 года. Директор Одесской киностудии Геннадий Збандут вызвал меня из Москвы срочной телеграммой: «СМОНТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ ВАШЕГО ФИЛЬМА „МОРЕ НАШЕЙ НАДЕЖДЫ“ НЕВОЗМОЖНО ТЧК СТУДИЯ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА ТЧК СРОЧНО ВЫЛЕТАЙТЕ ТЧК ЗБАНДУТ».
Черт возьми! «Море нашей надежды» было моим вторым фильмом и грозило мне вторым провалом! За что? Год назад мой приятель Жора Овчаренко, которому я еще во ВГИКе помог сделать его курсовую и дипломную режиссерские работы и которому я спасал его первый фильм в Алма-Ате, на «Казахфильме», – так вот, год назад этот Жора прилетел в Москву, разыскал меня в моей очередной временной берлоге и сказал:
– Старик, я перехожу на Одесскую студию. Збандут дает мне постановку, если я найду сценарий на морскую тему. Ты должен написать этот сценарий за три месяца, чтобы зимой я уже снимал павильоны, а летом вышел на натуру.
– Ты с ума сошел! Как я могу написать морской сценарий, если я даже плавать не умею!
– А зачем тебе плавать? Тебе нужно писать, а не плавать. Собирайся, мы летим в Одессу. Познакомишься там с моряками Одесского пароходства, и мы напишем сценарий вместе, за пару месяцев!
Это было замечательным свойством большинства советских режиссеров – с ходу становиться соавторами вашего сценария даже в том случае, если они, как мой друг Жора, писали слово «корова» через три «а». Ей-богу, я не свожу в этой книге ни с кем никакие счеты, я живу уже третью жизнь и давным-давно простил всем, кто насолил мне в моей первой, подсоветской жизни. И слава Богу, что этот Жора еще жив, – я не смог бы написать этого, если бы его уже не было, как многих моих бывших друзей и сверстников…
Да, не знаю, как сейчас, а в молодости Жора был замечательным парнем. Компанейский, щедрый, открытый и ростом под два метра. Его единственным недостатком была его полнейшая и необоримая безграмотность. Я не уверен, что он знал грамматику в объеме второго класса начальной школы. Потому что даже моя американская дочь после десяти уроков русского языка писала слово «корова» с двумя «а», а после двадцати – с одним. А Жора и на пятом курсе ВГИКа писал с тремя, клянусь! Как его приняли во ВГИК, было для меня полнейшей загадкой на протяжении всех лет нашего обучения – до тех пор, пока нам не пришлось сдавать выпускные экзамены. От экзаменов по иностранному языку, эстетике, марксизму-ленинизму и еще по какому-то «страшному» предмету Жору освободили на основании представленной им медицинской справки, в которой черным по белому, за подписью главврача какой-то больницы, удостоверенной круглой печатью, значилось, что он – глухонемой! Да, именно так – глухонемой, и если вы сомневаетесь в достоверности этого факта, можете проверить его у Жориных сокурсников – режиссеров Михаила Литвякова, Валерия Гурьянова, Владислава Ефремова и Михаила Закирова.
Но в конце концов кто сказал, что кинорежиссеру обязательно знать грамматику? Даже я не стану на этом настаивать. Потому как что такое кинорежиссура? Это некое мистическое умение перенести на экран то, что написано в сценарии. А если быть предельно точным, то весь процесс выглядит так: автор, то есть сценарист, придумывает некое киношоу, некую киноисторию, некую визуальную мистерию, которую он кодирует словами, и набор этих слов называется киносценарием. А задача режиссера-постановщика – перекодировать эти сны в материальные зрительные образы и запечатлеть их на кинопленке. Вот и все. Все исключения – даже Феллини или Тарковский, которые, согласно лживым слухам, работали без сценариев, – только подтверждают это правило. К тому же и Феллини был по своей первой профессии сценаристом. А потому, на мой взгляд, самый гениальный киновыдумщик не сможет – не имей он бычьего характера и административных способностей – стать настоящим кинорежиссером и навсегда останется только «подающим надежды» киномальчиком в коротких штанишках. Зато почти любой человек с выдержкой генерала Карбышева и организаторским даром Лужкова может стать коммерческим или, как еще говорят, «крепким» режиссером и делать один успешный фильм за другим. Не фестивальные шедевры, возможно, но и ненамного хуже них. Да, я готов повторить это где угодно, даже самому Марлену Хуциеву: талант режиссера есть талант воспроизводства сценария на экране – с помощью актеров, оператора, художника и т. д. И не бывает хорошего фильма по плохим сценариям, а обратных примеров – тьма. В западном и особенно в голливудском кино нас в первую очередь поражает именно это мастерство полного воплощения на экране того, что было задумано изначала, еще до первого хлопка «хлопушки» – там, кажется, просто нет режиссера, который не умел бы снять то, что записано в сценарии. А в России почти каждый режиссер относится к сценарию, как циркач к подкидной доске – лишь бы оттолкнуться и отпрыгнуть подальше!..
Нет, если бы мне пришлось преподавать во ВГИКе, я бы первые занятия с режиссерами посвятил не системе Станиславского, а системе закалки характеров по программе боевой подготовки спецотряда «Альфа» – для преодоления собственной «гениальной» расхлябанности и чудовищного бедлама, который называется «кинопроизводство». И зачеты у своих студентов принимал бы только по одному показателю: сколько процентов литературной записи донесено до экрана? Даже если ты и вправду гений, даже если ты новый Тарковский или Параджанов – пожалуйста, напиши все, что ты выдумал, на бумаге, закодируй это словами до последней ноты, как Чайковский кодировал в ноты свою гениальную музыку, а потом перенеси это на экран, сумей – через весь бедлам оргработы, вопреки капризам природы и актеров – донести до экрана, не пролив, каждую каплю твоей замечательной или ужасной выдумки. И чем талантливее были бы мои студенты, тем больше я бы настаивал на том, чтобы сначала они научились снимать самое простое, элементарное и даже однозначное, как детские кубики. Осень, ревность, жажда, азарт, смерть, похоть – тридцать метров пленки на каждое состояние души и природы. И только потом, когда они освоили бы эту азбуку, я позволил бы им снимать – по слогам! – их первые сюжетные этюды. А затем, заставив их освоить киношные азы так свободно, как музыканты осваивают упражнения Черни, – только после этого я стал бы вводить их в алгебру настоящей режиссуры: в умение извлечь из литературного произведения и превратить в партитуру фильма ту особую киномузыку, которая и называется киноискусством. Потому что, конечно, одним арифметическим складыванием кубиков-сцен «кина» не сделать…
Впрочем, ладно, оставим теорию, вернемся в начало семидесятых…
Мы прилетели в Одессу, и в первый же день директор студии в честь знакомства и под мою коротенькую заявку на морской сценарий не только выдал нам аванс размером аж в тысячу рублей, но и доверительно показал мне очередной запрещенный фильм Киры Муратовой «Долгие проводы» с Зинаидой Шарко и Ниной Руслановой в главных ролях.
Я смотрел этот фильм один, поздно вечером, в закрытом директорском просмотровом зале. Когда я вышел на улицу, было уже десять вечера, черная южная ночь накрывала студию, ее низкие павильоны и каштаны за ее проходной. В каком-то кабинете горел свет, я заглянул туда, там сидела синеглазая красотка Нина Гусилевская, секретарша сценарной коллегии и одна из шести бывших жен Радия Гусилевского, режиссера детских фильмов. Я спросил у нее, где живет Кира Муратова.