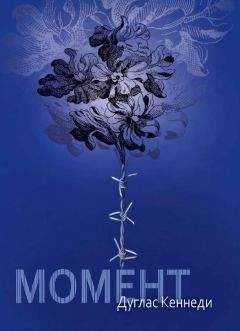— Мне казалось, я говорил о ваших прямоугольных формах и цвете.
— И что, они делают меня похожим на этого самоубийцу Марка, будь он неладен, Ротко?
— Вы — первый художник из всех, кого я знаю, кто не восхищается им.
— Ну, тогда считай, что ты потерял невинность с этим Ротко. Поздравляю. Я обесчестил тебя.
— Я что, должен подавиться от смеха или встать в позу после столь глупого комментария? Мне неудобно говорить вам об этом, но в ваших картинах я действительно увидел настоящий талант. А вот ваше остроумие оставляет желать лучшего.
Фитцсимонс-Росс молча достал из пачки сигарету и разлил чай по чашкам.
Потом открыл маленький холодильник, где стояли бутылки вина и пива и единственный пакет молока, а из открытой морозилки торчала бутылка русской водки (по крайней мере, я догадался, что это водка, по надписи кириллицей на этикетке). Он потянулся за молоком и, открыв пакет, плеснул мне в чашку столько белой жидкости, что мой чай стал больше напоминать воду из уличной лужи.
— Не пугайся, — сказал он. — Вот так нужно пить чай. Сахар?
Я согласился на полную чайную ложку. Он указал мне на деревянный стул. Я уселся. Он снова закурил и спросил:
— Итак, позволь, я угадаю. Ты пишешь. И приехал сюда, чтобы написать великий американский роман или тому подобный вздор.
— Да, я пишу. Но не романы.
— О боже, только не говори, что ты поэт. Вокруг меня было столько этих чертовых поэтов, пока я учился в Дублинском Тринити-колледже. Все вонючие, с гнилыми зубами, отирались в пабах вроде «МакДейдз», где ворчали на мир, хвастались друг перед другом своим талантом и клеймили почем зря редактора какого-нибудь журнальчика, осмелившегося править их вирши. В общем, начисто отбивали у всех, кто слышал этот бред, желание прочесть хоть один стих.
— Ну, у вас-то вряд ли отбили.
— Рад, что ты это заметил.
— Как бы то ни было, я не «чертов поэт».
Я вкратце рассказал ему о том, чем занимаюсь, упомянув об уже изданной книге и о той, на которую получил заказ.
— Мог я где-то ее видеть? — спросил он.
— Не исключено. Так вы из Дублина?
— Почти. Из Уиклоу. Бывал в тех краях?
— Однажды. Пауэрскорт, Глендалох, Раундвуд.
— Раундвуд — это моя родина.
— Очень красивое место.
— Раундвуд-хаус — наше фамильное поместье. Классический англо-ирландский особняк. Пока мой отец не потерял все.
— Как ему это удалось?
— Да как — по-ирландски. Пьянство и долги.
— Звучит интригующе. Расскажите подробнее.
— А ты потом все это выложишь на бумаге и, того хуже, используешь против меня?
— Я писатель — поэтому да, некоторый риск есть. Но неужели вас это беспокоит?
— Не так чтобы очень. И потом, кто будет читать то, что ты напишешь?
— Моя последняя книга была продана тиражом в четыре тысячи экземпляров, так что тут вы правы…
Он внимательно посмотрел на меня:
— Я не буду тебя раздражать?
— Не сомневаюсь в том, что вы и дальше будете испытывать мое терпение. Короткий вопрос, прежде чем я все-таки осмотрю комнату. Как насчет тишины? Хоть я и одобряю ваш музыкальный вкус… у вас постоянно так орет?
— Частенько — да.
— Тогда нет смысла говорить про комнату, поскольку я не смогу жить с громкой музыкой.
— Sensitive artiste. Какие мы чувствительные…
— Просто мне нужна тишина, когда я работаю, вот и все.
— А мне нужны деньги, которые ты будешь платить за аренду, так что, возможно, нам удастся договориться. Тем более что обычно я и сам работаю в тишине.
— Тогда почему вы сказали, что у вас всегда громкая музыка?
— Люблю прикинуться сукой…
— Значит, если я беру комнату, вы гарантируете, что, когда я пишу или сплю…
— Будет полная тишина.
Меня удивило то, насколько убедительно прозвучали его последние слова, если учесть, что до сих пор он только и делал, что подкалывал и злил меня своим сардоническим трепом. Было совершенно очевидно, что, несмотря на все разговоры о выставках в лондонской галерее, деньги были для него проблемой, а упоминание о непутевом папаше выдавало в нем человека, которого действительно волнует крыша над головой.
— И сколько вы хотите за комнату? — спросил я.
— Давай поговорим об этом после того, как ты все по-смотришь. — И, поставив чашку на стол, он спросил: — Ну что, готов к экскурсии?
Мы поднялись.
— Здесь, внизу, моя вотчина. Мастерская, кухня, гостиная. Я сплю вон там…
Он показал на дверь в дальнем углу студии. Она была открыта, и я смог увидеть простую двуспальную кровать, безупречно убранную, с накрахмаленными белыми простынями.
— Вы жили в Греции, верно? — спросил я.
— Что, так заметно?
— Конечно. Белые стены. Небесная синева и лазурь на ваших полотнах. Какого черта вы осели здесь, где все так холодно, так серо… и эта Стена совсем рядом?
— По той же причине, что и ты. Сбежал от мира. Нашел себе место по карману, но с драйвом. Да, Санторини, конечно, чертовски привлекательный вариант. Год, что я прожил там, это просто сказка. Но пресно. Этот остров… он как большинство мужчин, с которыми я спал там и где-либо еще. Такой красивый… и такой же пустой.
Случайно брошенная фраза подтвердила мои догадки.
— Что, все ваши любовники похожи на греческие острова? — спросил я.
Тяжелый смех Фитцсимонс-Росса сменился очередным приступом бронхиального кашля.
— Разве что в моих снах, — сказал он. — Но ты и так уже слишком много знаешь. Давай поднимемся наверх, и я покажу тебе, где ты будешь жить.
— Почему вы думаете, что я все-таки буду здесь жить?
— Потому что ты не сможешь устоять перед этим интригующим местом. И потому что ты не опустившийся наркоман, а я предлагаю чистоплотное распутство.
— Чистоплотное распутство, — повторил я следом за ним. — Пожалуй, украду эту фразу.
За кухней находилась узкая винтовая лестница, которая вела на полуэтаж, состоявший из трех комнат: большой студии с крохотной кухонькой, спальни и ванной комнаты. Кухня была представлена мини-холодильником, плитой с духовкой и раковиной. Изолированная ванная комната была такой же миниатюрной, но в ней все-таки нашлось место для душевой кабинки. В углу маленькой спальни стояла простая двуспальная кровать, а рядом деревянный гардероб. Но сама студия была завидной — около сорока квадратных метров. Старый диван с кремовой льняной накидкой. Простой функциональный стол, более чем подходящий для моей работы. Но особенно мне понравилось то, что вся мебель была из натурального некрашеного дерева, и бесцветное лаковое покрытие лишь подчеркивало эту естественную красоту. В сочетании с белыми стенами это производило впечатление аскетической чистоты. Я вдруг подумал, что это место станет для меня идеальным убежищем, оградит от опасностей, которыми кишели здешние улицы, не говоря уже о берлоге Фитцсимонс-Росса.
Кстати, тем и заинтриговал меня мой будущий сосед. С первого взгляда он мог произвести на любого равнодушного наблюдателя впечатление крайне распущенного типа, да еще и невоздержанного на язык. Но мне достаточно было беглого знакомства с его жилищем и мастерской — собственно, как и с квартирой, которую я собирался назвать своим домом (и которую он явно обустраивал как зеркальное отражение собственного пространства), — чтобы разглядеть в нем утонченную и привередливую натуру. Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, он так же, как и я, понимает, что внешняя сторона вещей дает ощущение глубокой уверенности, что дисциплинированный подход к домашнему хозяйству позволяет расслабиться, оторваться на всю катушку в чем-то другом. Впрочем, такой проницательностью я вряд ли обладал в то время. Тогда я видел в Фитцсимонс-Россе эдакого ирландского Ишервуда[18] и человека, который умеет демонстрировать хороший вкус даже при скромном бюджете.
— Что ж, очень мило, — сказал я. — Надеюсь, я потяну ее.
— Где ты сейчас проживаешь?
Я рассказал ему про пансион Вайссе, не преминув заметить, что он меня полностью устраивает.
— Ну, тогда оставайся на Савиньи-плац и пиши о своих соседях — торговых банкирах. Или о галеристе, который делает годовой оборот в пять миллионов дойчемарок. Здесь, в Кройцберге, ты сможешь наблюдать, как наркоманы гадят на улицах, а турки-садисты избивают своих жен. А меня сможешь застукать flagrante delicto[19] с мальчишкой-проституткой или депрессивным финном, которого я сниму в Die schwarze Ecke.
— Я хорошо знаю это место. Вчера ночью туда завалился.
— А вывалился в компании?
— Как вы догадались?
— Потому что это Die schwarze Еске, куда весь Кройцберг ходит выкурить косячок и снять на ночь любого, кто не выглядит законченным психом. Вот такой бордель. Мы все знаем, что это зараза. Но ходим — а куда деваться? Если хочешь курнуть гашиша, доверять там можно только Орхану. Турок-гном, толстый такой. Выглядит так, будто начинал трудиться еще при Белоснежке. Но гаш, который он предлагает… premier cru[20].