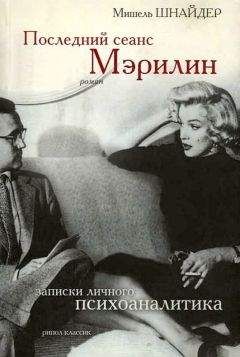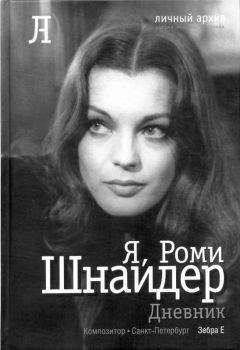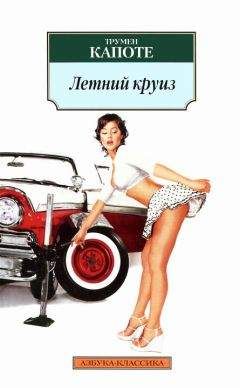На съемочной площадке режиссер Джошуа Логан обнаружил, насколько актриса подсела на фрейдизм. Снимали сцену, в которой Мэрилин, исполняющую роль Шерри, певицы-дебютантки, будил ковбой Дон Муррей, говоря: «Здесь слишком много солнца. Удивительно, что ты такая бледная и беленькая». Вместо этого он сказал: «Такая бледная, как змея».
— Стоп! — крикнул Логан.
Мэрилин взволнованно повернулась к актеру:
— Дон, слышишь, что ты сказал? Это оговорка по Фрейду. Все правильно; в сексуальной сцене ты назвал сексуальный символ — ты думал о змее, то есть фаллическом символе. Знаешь, что такое фаллический символ?
— А то не знаю! Он у меня между ног, — ответил Муррей. — Ты меня что, за педика принимаешь?
— Кто знает. Сейчас я расскажу тебе кое-что. Знаешь Эррола Флинна? Когда мне было 10–11 лет, моя опекунша, Грейс, три раза водила меня на фильм «Принц и нищий». Так вот, когда я десять лет спустя познакомилась в Голливуде с настоящим живым Флинном, я увидела, как мой принц вытащил из штанов свой член и стал играть им на рояле. Не поверишь — Эррол Флинн! Киногерой моего детства! Конечно, уже сто лет прошло, тогда я начинала работать манекенщицей и оказалась на этой жалкой вечеринке, а он уже был там, ужасно довольный собой, и он вытащил свой член и стал стучать им по клавишам. Он играл «Ты мое солнышко». Вот так цирк! Все говорят, что самый большой конец в Голливуде — у Мильтона Берла. Не знаю. Но Эррола я видела! Я всегда знала, что Эррол, как говорится, спит на обеих сторонах постели. У меня есть массажист, он мне практически как сестричка, ха-ха, он работает массажистом и у Тайрона Пауэра, и он мне все рассказал про роман между Эрролом и Таем Пауэром. Нет уж. Тебе надо найти кого-нибудь получше!
Во время съемок «Автобусной остановки» в Сан Вэлли Мэрилин применяла психоаналитические заветы Страсберга, который был родственником Логана. Вместо роскошных нарядов, специально созданных для нее, она надевала выцветшее облегающее черное платье или корсет из сетки на вульгарном голубом атласе, который, возможно, напоминал ей порнографические съемки начала ее карьеры. Она хотела, чтобы одежда была чиненой, штопаной, похожей на нее саму, как она себя воспринимала. Она добавила к роли хористки свое непобедимое заикание в моменты волнения. Она даже импровизировала ошибки в репликах, не предусмотренные сценарием.
Рено, Невада
лето 1960 года
Трудности, начавшиеся при съемках фильма «Давай займемся любовью», продолжились. Натурные съемки следующего фильма, «Неприкаянные», с Кларком Гейблом и Монтгомери Гифтом, поставленного по пьесе Артура Миллера, Хьюстон проводил в Рено (Невада). Эти съемки были задержаны и начались без Мэрилин. Съемочная группа поселилась в отеле «Мейпс», а показ рабочих позитивов состоялся в кинотеатре «Крест». Через два дня самый верный поклонник Мэрилин, Джим Хэспил, приехал проводить ее в нью-йоркский аэропорт Ла Гвардия, откуда она должна была улететь в Неваду. Он заметил ее измученный, нездоровый вид. Под глазами у нее были мешки, на юбке сзади — пятна крови. Он не хотел видеть ее в таком состоянии и ушел. Через несколько часов самолет сел в Рено. Мэрилин переодевалась в туалете, как обычно заставляя всех ждать. У трапа нервничала встречающая ее с цветами жена губернатора штата. Фотографы вытащили вспышки. И наконец звезда вышла из самолета, словно белое видение в ночи.
На следующий день, в пустыне, при сорока градусах в тени, Мэрилин начала съемки. Никогда никто даже во сне не видел подобной женщины. Она явилась, словно призрак, сияя своей бледностью, как луна среди туч. Затянутая в платье из белого шелка с красными вишенками, в котором она казалась символом одновременно доступности и недосягаемой чистоты. Богиня испуга, которая может убить улыбкой, обращенной к вам одному, разбить вам сердце.
Когда Хьюстон несколько месяцев назад предложил Монро роль Розлин, женщины, потерявшейся между тремя мужчинами и отправляемыми на бойню лошадьми, роль Мэрилин не понравилась. Она была слишком похожа на нее саму.
«Двойник меня самой, — говорила она Гринсону. — Те же тревоги, то же чувство всегдашней покинутости, такая же тяжелая жизнь. Мне не хочется играть женщину с трудным детством, болезненными отношениями с матерью; женщину, которая находит прибежище только в восхищенном взгляде чистых душой детей и зверей. Розлин — в этом имени склеены Роза из «Ниагары», эта порочная шлюха, избавляющаяся от своего мужа, и я, Мэрилин. В общем, можно сказать, что это я. Артур написал эту роль для меня, чтобы высказать мне свою любовь и свое отвращение».
В конце концов она согласилась на эту роль только потому, что ей надоело играть в комедиях, и еще потому, что окончательный вариант сценария написал Хьюстон, а не Миллер, который сначала скроил сценарий для нее, словно смертоносное платье.
«Даже боль ее выражала жизнь и борьбу с ангелом смерти», — скажет он впоследствии.
— Но почему ты хочешь снять именно черно-белый фильм? — спросила Мэрилин у режиссера.
— Потому что глаза у тебя красные, капилляры полопались от наркотиков, и на цветную пленку это снимать нельзя, даже если бы у меня был такой план и бюджет. Не расстраивайся и не беги глотать очередные пилюли. За безвременную смерть я тебя не стану больше любить! Невротички, покушающиеся на собственную жизнь, всегда действовали мне на нервы. Убивайте себя, если уж так приспичило, только не доставайте других!.. А потом, знаешь ли, если коснуться психологии — а именно она будет темой фильма о Фрейде, который я планирую снять, — я хочу ухватить не цвет твоих глаз, а то, что происходит у тебя в голове. И наконец, потому что черно-белых кадров не существует в жизни, а я хочу снять то, что есть только в кино.
— А почему меня?
— Потому что ты шлюха, а не актриса. И как настоящая хорошая шлюха, ты не притворяешься. Ты платишь натурой — своим телом, своей душой. Но ты же понимаешь, что эта женщина — не ты. Ты знаешь, что мне не нравится метод актерской студии, которым Страсберг, к счастью, не успел тебя испортить, — эта проклятая театральная техника, что велит уйти глубоко в себя, найти там эмоцию и выплеснуть ее на экран. Я очень уважаю психоанализ и глубоко почитаю актерскую работу, но, когда они сходятся вместе, случается катастрофа. Твоя сила, Мэрилин, в том, что ты порвала с методом Страсберга, даже если сама этого не понимаешь. Ты не станешь играть Розлин. Ты просто дашь зрителю то, что он хочет чувствовать, видеть, любить. Дашь, как шлюха, которой хочется, чтобы клиент получил удовольствие за свои деньги. Вот что я тебе скажу: помни, чему тебя учил Страсберг, и поступай наоборот. Тогда все будет хорошо. Оставь эти свои бредни насчет «обращения к внутреннему миру». Выражай себя во внешнем мире, ведь ты здесь. И зритель твой здесь. А тревогу сохрани — это драгоценный ресурс — и не думай, что психоаналитик избавит тебя от нее. Это невозможно, во всяком случае не нужно. Без тревоги твое ремесло лучше сразу бросить.
— А почему ты снимаешь фильм о Фрейде? Вместо психоанализа?
Хьюстон ответил не сразу. Для него настал поворотный момент в жизни. Ему только что исполнилось 54 года, и он столкнулся с теми же тревогами, конфликтами и глубокими проблемами, что в детстве и в подростковом возрасте. Подсознание всегда завораживало его и пугало, с первого же своего фильма он заинтересовался глубинной психологией. В то время слово «психоанализ» еще не было знакомо в Голливуде.
— Знаешь, психоанализ меня интересует, — проговорил Хьюстон. — Я затронул вопрос психологической травмы и вытесненных воспоминаний в документальном фильме о солдатах, вернувшихся с фронта, — «Да будет свет». Ведь для тебя проходить психоанализ — значит проливать свет на прошлое, разгонять тьму? Что касается меня, я знаю, что в этом терапия не поможет. Я выберусь сам. Парализующую меня тревогу я приведу в движение. Вытесненные сцены заставлю ожить на экране. Я буду бомбардировать моего демона кадрами — двадцать четыре кадра в секунду! Фильм, а не психоанализ. И именно про Фрейда. «Сыграй это снова, Зигмунд».
— А почему ты так жесток с Монти?
— Я снимаю настоящих мужчин, я терпеть не могу пассивность. Я люблю активность, действие. Люблю, чтобы от съемок всем было больно. Больно актерам, техническому персоналу, продюсерам. Открою тебе один секрет: кино создано для того, чтобы делать зрителю больно. У нас с Монтгомери такие отношения, которые ему нравятся — он получает от них удовольствие. Я с ним обращаюсь как с мазохистом, алкоголиком, наркоманом и педерастом, что он, собственно, из себя и представляет. Он опустошен, потерян. Вот поэтому я и собираюсь дать ему роль Фрейда. Мне бы хотелось, чтобы мой Фрейд был не слишком далек от персонажа Пирса. Человек, сбившийся с пути, раненный, во всяком случае сломленный.