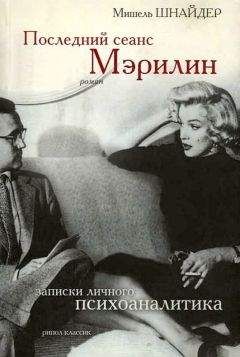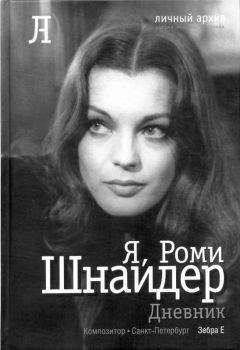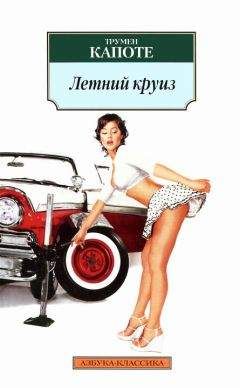Однажды вечером в Рено, за игровым столом, Хьюстон попросил Мэрилин бросить кости.
— Джон, какие цифры? Мне загадать?
— Не думай, милая, бросай! В этом вся твоя жизнь. Ты слишком много думаешь. Не думай, а делай!
Но Мэрилин все же хотела продумать свою роль. Оказавшись на съемочной площадке, Мэрилин переставала разговаривать с мужем и с режиссером. Чтобы поговорить с ней, надо было обращаться к Паоле Страсберг. Она присутствовала постоянно, в вечном черном платье и лиловой вуалетке. Мэрилин за глаза называла ее «моя ведьма» или «стервятник», но добилась от съемочной группы более высокой платы для нее, чем для себя самой. Они говорили на своем языке, непонятном для съемочной группы. Мэрилин нужно было, чтобы эта старая женщина взяла ее за руку и соткала вокруг нее завесу из лжи. Ее прозвали «черной баронессой».
«Сколько в этом фильме режиссеров?» — восклицал Хьюстон. Но фильм не продвигался вперед, и, смирившись со своей горестной судьбой, он проигрывал в казино Рено съемочные средства. Мэрилин не выходила из своего фургона. Она только и делала, что пыталась погрузиться в глубины собственной души. Она верила только в «метод». Студия «Фокс» решила обратиться к Гринсону.
Лос-Анджелес, Бель-Эр
август 1960 года
Мэрилин воспользовалась предпоследними августовскими выходными и перерывом в съемках «Неприкаянных», чтобы съездить в Лос-Анджелес. Она несколько часов беседовала со своим психоаналитиком, а также навестила Джо Шенка. Старый продюсер, один из основателей «Фокс», был серьезно болен; он умер вскоре после их встречи. Они познакомились в 1948 году на вечеринке в его роскошном доме на Саус Кэролвуд-драйв. Кричащий архитектурный стиль невероятного испано-итальяно-мавританского Возрождения как нельзя лучше подходил к крупномасштабным покерным баталиям, на которые друзья Джозефа Шенка являлись в сопровождении молодых и красивых женщин, игравших не только декоративную роль. Хорошенькие малышки — фотомодели и начинающие киноактрисы — наполняли стаканы и выносили пепельницы. Они надеялись начать карьеру в кино или продвинуться в ней. И если для этого надо было после пепельниц оказать некоторые интимные услуги игрокам, к чему отказываться?
У Шенка за плечами была долгая карьера продюсера. Мэрилин признала, что попала в его жертвы с полного своего согласия. Но она поддалась не в тот вечер.
На следующий день за ней заехал белый лимузин, чтобы отвезти ее на ужин в узком кругу. Отказать было бы безумием с ее стороны, но она не хотела отдаваться сразу же, и Люсиль Кэролл, одна из подруг, посоветовала ей сказать, что она хранит свою девственность, чтобы отдать ее идеальному мужчине. Поздно вечером Мэрилин в страшном волнении позвонила ей из дома Шенка: «Он знает, что я замужем. Что теперь ему говорить про девственность?»
Вечеринка закончилась. Мэрилин подчинилась и отдалась, но теперь не вспоминала об этом, глядя на несчастное восьмидесятилетнее создание, опутанное трубками, готовящееся испустить дух на больничной койке. Тогда ей отчаянно хотелось работать. Она хотела достичь успеха. Приходилось смириться с тем, что переговоры о получении ролей часто велись с глазу на глаз, а не через агентов. Впоследствии Мэрилин открыто говорила о своем романе с Шенком, сразу же давшим ей то, чего она ждала, познакомив ее со своим партнером по покеру Гэрри Коном, предметом страха и ненависти всего Голливуда. Он сделал карьеру Кармен Кансино, ставшей позднее Ритой Хейворт; он был директором киностудии «Колумбия».
Через несколько дней и ночей после своей вечеринки у Шенка, Мэрилин вошла в кабинет Кона на углу бульваров Сансет и Гауэр. Он сразу же предложил ей полугодовой контракт на 120 долларов в неделю со следующего месяца. Он выдвинул одно условие, хотя и не то, которого она ожидала: она должна была сделать перманент, чтобы увеличить объем прически электролизом, после нескольких нанесений перекиси водорода и аммиака. Естественный каштановый цвет ее волос, жалко перекрашенных в грязновато-блондинистый, исчез под платиновым облаком. В зеркале Мэрилин увидела женщину, все более напоминающую кумира ее детства — Джин Харлоу.
Кон, одобрив новый имидж Мэрилин, послал ее на занятия под руководством Наташи Лайтесс, которая скажет впоследствии: «Я сделала Мэрилин. Всю. Ее круг чтения, ее голос, ее игру, ее манеру особенно четко произносить «т» и, д», ее походку — ставить каблук прямо перед носком другой ноги, качая бедрами, — походку, до тех пор не виданную ни у одной актрисы».
Под свинцовым августовским небом Лос-Анджелеса Мэрилин задумалась об этих совпадениях: больничная палата, в которой Шенк боролся за последние глотки воздуха, находилась в том же районе, что его прежняя экстравагантная вилла, а волосы больного были теперь белыми, словно обесцвеченными. Она посмотрела на собственное отражение в зеркале и удивилась чрезмерному, невыносимо светлому цвету волос, специально предназначенному, чтобы притягивать вспышки и превращаться под камерой в нематериальный нимб в фильме «Неприкаянные». Оставаясь блондинкой, она для каждого фильма придумывала особый цвет волос. Пепельный, золотистый, серебристый, янтарный, платиновый. Цвет меда, цвет дыма, цвет топаза, цвет металла. Самое главное — никогда не выглядеть естественной блондинкой. Мэрилин вспоминала. Семь лет назад она снималась вместе с брюнеткой Джейн Рассел в фильме Говарда Хоукса. Она не могла добиться, чтобы ей дали собственную гримерную: «Послушайте же! Это нелогично. Я блондинка, а фильм называются, «Джентльмены предпочитают блондинок»». Ей ответили: «Вспомни, что ты не звезда!» А она: «Уж не знаю, кто я, но, во всяком случае, я блондинка!»
Мэрилин отвернулась от зеркала в больничном зале ожидания и впервые отметила, что «dying hair» означает одновременно «крашеные волосы» и «умирающие волосы».
«Ведь я видела столько залов ожидания — и дебютанткой, и позже. Может быть, я все время опаздываю, чтобы заставить мужчин себя ждать. Чтобы заставить смерть себя ждать. Я согласна на последний танец, но только не сейчас!»
Она подавила смешок: «Поговорю об этом с моим словесным доктором».
Подойдя к кровати Шенка, она заплакала, потому что вспомнила, что через два года их связи он подарил ей щенка чихуахуа. Она назвала ее Жозефа — в честь этого мужчины, к которому еще долго испытывала слабость. Джозеф Шенк действительно любил ее тогда, когда она делала свои трудные первые шаги в кинематографе. Она часто звонила ему, когда чувствовала голод и хотела вкусно поесть или когда ей было грустно и хотелось выплакаться на чьем-то плече.
Шенк услышал, как она вошла в палату, но не узнал ее.
Санта-Моника, Франклин-стрит
август 1960 года
На дневном сеансе Гринсон указал пациентке на то, что она мало говорит о своей сексуальной жизни.
— Знаете, доктор, моя сексуальная жизнь, да и вся моя жизнь вообще, представляется сплошной чередой фальшивок. Мужчина входит в мою жизнь, возбуждается, берет меня, теряет меня. На следующем плане тот же мужчина — или иногда другой — снова входит, но улыбка у него уже не та, изменились движения, освещение. Стакан у него в руке только что был пустым, а теперь он полон. Наши взгляды снова встречаются, но они уже другие. Время изменило образ друг друга, который возник у нас, но мы опять оказались в этой ловушке. Мы всегда встречаемся во второй раз, и оба уверены, что этот раз первый. Вы не понимаете, о чем я? Я тоже не понимаю. Может, это и есть реальность отношений между мужчинами и женщинами. Мы касаемся друг друга, мы трогаем друг друга расстоянием во времени, которое сохраняется между нами.
Чем дальше Гринсон слушал Мэрилин, тем больше ему казалось, что ее проблема не является сексуальной, что речь идет скорее о расстройстве самовосприятия. Он выделял отдельный тип больных, которых называл «пациент-экран» — тех, которые своими защитами, как экраном, заслоняются от желания. Они проецируют экранирующий голод или, например, экранирующую сентиментальность. Они показывают личность-экран. Для них показываться и быть увиденным — переживание возбуждающее или пугающее, а чаще всего — то и другое одновременно. На обычном языке «экран» означает «фильтр, ширма, маска, сокрытие». Соответствующий психоаналитический термин означает только деятельность по сокрытию экзистенциального страдания жизнеспособным образом себя. «Образ, который проецируют эти люди, не ложный, он подлинный, — уточнял он, — но он защищает их от другой, невыносимой истины самих себя». В случае Мэрилин, думал он, слово «экран» означает, более буквально, киноэкран. Психоаналитику также вспомнился этот кадр, мелькающий на всех телеканалах пять лет назад: плакат с фотографией Мэрилин в фильме «Зуд седьмого года», натянутый сверху донизу стены здания Государственного театра Лоу в Нью-Йорке. Огромный белый цветок из плоти и раскрывшегося, как лепестки, платья высился над Бродвеем две недели перед премьерой фильма.