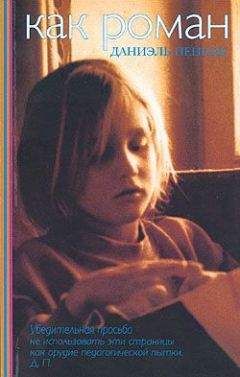— Да как же можно не любить Стенда-а-а-а-а-аля?!
Можно.
Перечитывать то, что с первого раза нас оттолкнуло, перечитывать, ничего не пропуская, перечитывать под другим углом зрения, перечитывать, проверяя свои впечатления… Да, все это мы считаем своим правом.
Но по большей части мы перечитываем просто так, чтобы повторить удовольствие, порадоваться встрече со знакомым, проверить, сохранилась ли прежняя близость.
«Еще про Мальчика с пальчик!» — говорил ребенок, которым когда-то были мы…
И взрослыми мы перечитываем из этого же самого желания: наслаждаться постоянством и находить в нем каждый раз новое очарование.
Что касается «вкуса», то многие мои ученики изрядно мучаются, столкнувшись с архиклассической темой сочинения: «Можно ли делить романы на хорошие и плохие?» Поскольку под своей внешней неуступчивостью они, в общем-то, добрые, то и рассматривают вопрос не в литературном плане, а в этическом, и судят с точки зрения свободы личности. Так что все их сочинения можно свести к одной формуле: «Да нет же, нет, каждый волен писать, что хочет, и все читательские вкусы одинаково естественны, нет, правда!» Да… да-да… позиция, достойная всяческого уважения…
Тем не менее есть романы хорошие, а есть плохие. Можно перечислять имена, можно приводить доказательства.
Обобщим для краткости: существует такое явление, которое я назвал бы «индустриальной литературой», творцы подобной литературы тиражируют одни и те же истории, ставят штамп на поток, делают бизнес на сантиментах и острых ощущениях, они подхватывают любую злободневную тему и стряпают сюжетец «в струю», постоянно «изучают рынок», чтобы в зависимости от «конъюнктуры» наготовить того или иного «товара», рассчитанного на ту или иную категорию читателей.
Они пишут безусловно плохие романы.
Почему? Потому что подобные романы обязаны своим происхождением не творчеству, а воспроизводству готовых форм, потому что строятся они на упрощении (иначе говоря, на лжи), тогда как настоящий роман есть искусство истины (иначе говоря, сложности), потому что, теша наш автоматизм, они усыпляют в нас любознательность, потому, наконец (и это главное), что в них нет присутствия автора, нет и жизни, которую они якобы описывают.
Плохие романы — это ширпотреб, сделанный по шаблону, который норовит и нас подогнать под шаблон.
Однако не надо думать, что подобная дурь — явление новое, связанное с индустриализацией книжного дела. Ничего подобного. Эксплуатация остросюжетности, дешевого блеска, безотказного мороза по коже не вчера родилась.
Чтобы далеко не ходить за примерами, скажем, что всем этим грешил рыцарский роман, а много позже — романтизм. Но нет худа без добра — реакция на низкопробную литературу подарила нам два лучших в мире романа: «Дон Кихота» и «Госпожу Бовари».
Так что бывают и «хорошие» романы, и «плохие».
Чаще всего именно вторые первыми попадаются нам на пути.
И, ей-богу, когда настал мой черед с ними познакомиться, они, помнится, показались мне «просто здоровскими». Мне очень повезло: надо мной не смеялись, не закатывали глаза, не ругали за глупость. Просто раскидали на моем пути кое-какие «хорошие» романы, ни в коем случае не позволяя себе запрещать мне прочее чтиво.
Вот она, мудрость.
Хорошее и плохое — на каком-то этапе мы читаем и то, и другое. Точно так же, как не отказываемся единым махом от книжек своего детства. Все перемешивается. Выныриваешь из «Войны и мира» и возвращаешься к «Зеленой библиотеке». От серии «Арлекин» (истории про прекрасных врачей и благородных медсестер) переходишь к Борису Пастернаку с его «Доктором Живаго» — тоже прекрасный врач, а Лара — медсестра, и какая благородная!
А потом в один прекрасный день перевешивает Пастернак. Мы ищем в книге писателя, ищем творческий почерк; товарищей по играм нам уже мало, мы ищем спутников жизни. Просто анекдота нам уже не достаточно. Пришло время, когда мы требуем от романа чего-то большего, чем мгновенное и безотлагательное удовлетворение жажды острых ощущений.
Одна из высших радостей педагога — увидеть, как ученик — при дозволенности любого чтения — сам захлопывает дверь фабрики бестселлеров и заходит отвести душу к другу Бальзаку.
(заболевание, передающееся текстуальным путем)В общем и целом «боваризм» в этом и состоит — в исключительном и безотлагательном удовлетворении жажды острых ощущений: воображение кипит, нервы трепещут, сердце колотится, адреналин бьет ключом, вживание в образ не знает удержу, и мозг принимает (ненадолго) гусей повседневности за лебедей романтики…
Все мы поначалу читали именно так.
Упивались.
И пугали своим упоением взрослых наблюдателей, которые спешили подсунуть юному боваристу что-нибудь «высокохудожественное», провозглашая:
— Посмотри, а ведь Мопассан-то все-таки лучше, разве нет?
Спокойно, спокойно… не стоит самим поддаваться боваризму; Эмма-то, в конце концов, всего-навсего персонаж романа, задуманного и продуманного автором, поэтому из причин, посеянных Гюставом Флобером, вырастут лишь такие следствия — при всей их правдивости — какие он задумал.
Иначе говоря, если моя дочь зачитывается серией «Арлекин», она вовсе не обязана сначала изолгаться, а потом отравиться мышьяком.
Хватать ее за руку и оттаскивать от подобного чтения значило бы поссориться и с ней, и с собственным отрочеством. И лишить ее ни с чем не сравнимого удовольствия — самой завтра вывести на чистую воду ширпотреб, от которого она сегодня без ума.
Куда разумнее с нашей стороны поладить с собственным отрочеством; ненавидеть, презирать, отрицать или просто забывать подростка, каким мы когда-то были, — как раз подростковый симптом: стоит ли паниковать, воспринимая переходный возраст как смертельно опасную болезнь?
Лучше напомнить себе о своих первых читательских переживаниях и воздвигнуть скромный алтарь прежним читательским пристрастиям. В том числе и самым «дурацким». Их роль неоценима: они помогают нам сопереживать себе прежним, посмеиваясь над тем, чему мы прежде сопереживали! Мальчики и девочки, которые делят с нами жизнь, только выиграют от этого, мы почувствуем и к ним уважение и нежность.
И еще надо напоминать себе, что боваризм — как и некоторые другие слабости — свойственен в какой-то мере всем (замечаем-то мы его всегда в других). Нередко мы, возмущаясь, что подростки читают такую пошлятину, сами в то же время вносим свою лепту в успех какого-нибудь телегеничного писателя, которого осмеем и забудем, когда мода на него пройдет. Чередование наших просвещенных восторгов и умудренных отречений исчерпывающим образом объясняет, как создаются литературные фавориты.
Нас не проведешь, мы видим все насквозь, и так всю жизнь знай приходим на смену самим себе, неколебимо убежденные, что «госпожа Бовари — это не я».
Эмма наверняка была того же мнения.
Шалон-на-Марне, 1971 год, зима.
Казармы артиллерийской учебной части.
На утреннем разводе рядовой второго класса Имярек (регистрационный номер 14672/1, хорошо известный нашей хозчасти) систематически вызывается добровольцем в самый непопулярный, самый бесславный наряд, обычно назначаемый в наказание и являющий собой посягательство на честь и достоинство: легендарный, унизительный, неприличный наряд по сортиру.
Каждое утро.
Неизменно улыбаясь. (Про себя.)
— Наряд по сортиру? Он делает шаг вперед.
— Имярек!
Торжественно, как перед атакой, берет швабру со свисающей половой тряпкой, словно это полковое знамя, и исчезает к великому облегчению остальных. Одинокий смельчак: никто за ним не следует. Армия в полном составе окопалась в укрытии более почетных нарядов.
Проходит час, другой… Он, должно быть, пропал без вести. Он почти забыт. О нем забывают. Однако в положенный срок он является и, щелкнув каблуками, рапортует: «В туалетах чисто, господин капрал!» Капрал забирает швабру, и глубоко в его глазах таится вопрос, который он так и не облекает в слова. (Уважение к человеку обязывает.) Рядовой козыряет, разворачивается кругом и возвращается в строй, унося с собой свою тайну.
Эта тайна вполне материальным весом оттягивает правый карман его гимнастерки: томик в тысячу девятьсот страниц, в который «Плеяда» уместила полное собрание сочинений Николая Гоголя. Четверть часа повозить шваброй за целое утро с Гоголем… Вот уже два зимних месяца каждое утро рядовой Имярек, с удобством посиживая в тронной зале, запертой на два оборота, воспаряет высоко-высоко над армейской действительностью. Весь Гоголь! От ностальгических «Вечеров на хуторе близ Диканьки» до фантасмагорических «Петербургских повестей», включая страшного «Тараса Бульбу» и черную комедию «Мертвых душ», да еще пьесы, да еще письма Гоголя, этого поразительного Тартюфа.