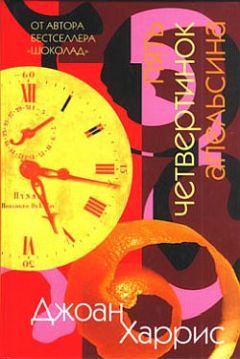Она поднялась в три часа и зажгла лампу, чтобы сделать запись в альбоме. Знать об этом я никак не могла — мать никогда не помечала дат, и все же я поняла.
«Нынче худо, как никогда», — пишет она. Мелкий почерк, колонна лилово-чернильных муравьев расползлась по странице.
Лежу в постели и думаю, удастся ли вообще уснуть. Хуже этого ничего не может быть. Лучше б ополоуметь, чтоб ничего не чувствовать.
И после ниже, под рецептом картофельного пирога с ванилью, она пишет:
Меня рассекло пополам, как те часы. Чего не взбредет в голову в три часа ночи.
Потом она встала, чтобы принять таблетки морфина. Она хранила их в шкафчике в ванной, рядом с бритвенным прибором моего убитого отца. Я слышала, как открылась дверь, как усталым скрипом отдавались натертые доски под ее влажной от пота ногой. Стук бутылочки и звяканье чашки о кувшин, когда она наливала в нее воду. Шестичасовая бессонница вполне могла стать в конце концов причиной ее головных болей. Как бы то ни было, когда я проснулась утром, мать спала как убитая.
Ренетт с Кассисом еще не проснулись. Свет, сочившийся из-под тяжелой шторы, был зеленоватый, бледный. Должно быть, пять утра; часов у нас в спальне не было. Я села в кровати, нащупала в полумраке одежду, быстро оделась. Каждый закоулок маленькой комнаты был мне отлично знаком. Прислушиваясь к дыханию Кассиса и Рен — Кассис дышал чаще, с легким присвистом, — я тихо-тихо прошла мимо их кроватей. До того как они проснутся, мне надо успеть сделать уйму дел.
У двери в спальню матери я прислушалась. Тихо.
Я знала, что она приняла свои таблетки, и надо думать, спит крепко, но рисковать мне не хотелось. Очень осторожно я повернула дверную ручку. Доска у меня под ногой выстрелила как из пушки. Я замерла на ходу, вслушиваясь в дыхание матери, не сбился ли ритм. Дыхание ровное. Я толкнула дверь. Одна ставня приоткрыта, и в комнате светло. Мать лежала поперек кровати. Ночью она, мечась, сбросила с себя покрывало, одна подушка валялась на полу. Поверх второй лежала ее отброшенная вбок рука, голова в неловкой позе притулилась у края подушки, волосы свесились до пола. Без особого удивления я обнаружила, что она лежит как раз на той подушке, куда я упрятала муслиновый мешочек. Я присела на корточки. Мать дышала глубоко, медленно. Под посиневшими веками странно блуждали зрачки. Осторожно я подползла пальцами к ее подушке.
Это оказалось просто. Пальцы нащупали узелок в самом центре, повели его назад к дырке в наволочке. Нащупав мешочек, я ногтями подтянула его к себе и наконец благополучно выкатила из укрытия прямо в ладонь. Мать не шевельнулась. Только глаза пульсировали и подергивались под потемневшими веками, как будто беспрестанно следили за чем-то ярким, ускользающим. Рот был полуоткрыт, слюнный след ниточкой протянулся по щеке вниз к матрасу. Что-то подтолкнуло меня поднести мешочек к самым ее ноздрям, предварительно помяв, чтоб сильнее пахло, и она жалобно застонала во сне, голова метнулась прочь, брови сдвинулись. Я снова сунула мешочек к себе в карман.
Потом предстояло сделать основное. Я напоследок оглянулась на мать, как на опасное, притворившееся спящим дикое животное. И подошла к каминной полке. Там стояли часы. Тяжелые, с круглым циферблатом в стеклянном футляре с позолотой. Они совершенно не вязались с маленькой черной каминной решеткой, были слишком вычурны для материнской спальни, но мать унаследовала их от своей матери и очень ими дорожила. Приподняв круглый стеклянный купол, я осторожно перевела стрелки назад. На пять часов. Шесть. После чего снова накрыла.
Все, что стояло на полке, — фотографию отца в рамочке, еще одну женскую, кажется бабушкину, глиняную вазу с засохшими цветами, блюдечко с тремя заколками для волос и одним засахаренным миндальным орехом, оставшимся после крещения Кассиса, — я методично преобразовала. Фотографии повернула к стенке, вазу поставила на пол, вынула заколки из блюдечка, опустила в карман брошенного материнского фартука. Затем подобрала ее одежду и разложила по комнате в художественном беспорядке. Одно сабо примостила на край лампового абажура, другое положила на подоконник. Платье аккуратно повесила на плечики за дверь, а фартук распластала по полу, как скатерку на пикнике. Под конец я открыла ее гардероб и распахнула дверцу настолько, чтоб во внутреннем зеркале отразилась кровать и она, лежащая на кровати. Чтоб, когда проснется, это сразу и увидала.
На самом деле никакого злого умысла у меня в голове не было. Я не собиралась ей вредить, просто хотела сбить ее с толку, пусть решит, будто подстроенный ей приступ был на самом деле и что она в беспамятстве передвигала вещи, раскладывала одежду, переводила стрелки на часах. Еще отец рассказывал, что, бывает, она сделает что-то, а после не помнит, что делала, и что от дикой боли и смятения у нее плыло в глазах, не говоря уже про голову. Внезапно ей чудилось, будто часы в кухне разрезаны пополам, одна половинка еле видна, а вторая и вовсе исчезла, и вместо нее пустота, только голая стена; или вдруг винный стакан сам по себе оказывался не там, где стоял, передвигался по другую сторону от тарелки. Или вдруг у человеческого лица — моего, или отца, или Рафаэля из кафе — стиралась половина черт, как после какой-нибудь жуткой операции, или она читает, а половина страниц из поваренной книги внезапно исчезает и оставшиеся буквы пляшут перед глазами и ничего нельзя разобрать.
Правда, тогда обо всех этих подробностях я и понятия не имела. Многое узнала только из того альбома, из ее каракулей, иные слова были нацарапаны будто в лихорадке, буквально на грани отчаяния, — «Чего не взбредет в голову в три часа ночи», — другие казались казенными, вроде медицинского заключения, определяющего симптомы с холодной пытливостью аналитика: «Меня, как те часы, рассекло пополам».
10.
Я вышла из дома, когда Рен с Кассисом еще спали, рассчитывая, что у меня примерно полчаса, чтоб обернуться, пока они не проснутся. Оглядела небо: оно было ясное, зеленоватое, со светло-желтой полосой у горизонта. Уже, должно быть, минут десять как рассвело. Надо спешить.
Я взяла из кухни ведро, надела сабо, поджидавшие на коврике у двери, и со всех ног помчалась к реке. Срезала путь через заднее поле Уриа, где подсолнухи воздели свои бархатистые, еще зеленые головы к небу. Я бежала пригнувшись, невидимая в листве, ведро то и дело било по ногам. Не прошло и пяти минут, как я была уже у Стоячих Камней.
В пять утра Луара, подернутая дымкой, безмятежна и великолепна. Вода в эти часы просто чудо, прохладная и загадочно-бледная, песчаные берега встают над рекой, точно забытые континенты. Вода пахнет ночью, а на поверхности то тут, то там искры нового дня играют слюденистыми отблесками. Сняв сабо и платье, я критическим взглядом окинула воду. Она казалась совершенно неподвижной. Последний из Стоячих Камней, Сокровищный, находился, наверное, футах в тридцати от берега; поверхность воды у его основания казалась подозрительно гладкой, как шелк, а это означало, что под ней бурлит сильное течение. «Там можно утонуть, — вдруг пронеслось в мыслях, — и никто даже не узнает, где меня искать».
Но выбора не было. Кассис бросил мне вызов. Я должна платить за себя сама. А так как своих карманных денег у меня нет, возможность только одна: завладеть кошельком, припрятанным в Сундуке Сокровищ. Конечно, есть вероятность, что Кассис вынул оттуда кошелек. Если так, придется пойти на риск и стянуть деньги у матери. Но этого не хотелось бы. Не потому, что красть плохо, а из-за потрясающей памяти матери на цифры. Она помнила, сколько у нее денег, до последнего сантима, и значит, мое воровство незамеченным не пройдет.
Нет. Только Сундук Сокровищ.
С тех пор как у Кассиса с Ренетт закончились занятия, на реку они иногда наведывались. У них были свои сокровища — взрослые, — своя тайная радость. В кошельке оставалось всего несколько монеток, не больше пары франков. Я рассчитывала на лень Кассиса и на его уверенность, что, кроме него, ни одна живая душа не сможет доплыть до коробки, привязанной к дальнему столбу. Потому была убеждена, что монеты по-прежнему там.
Осторожно я сползла по берегу прямо в воду. Она была холодная, речным илом обволокло пальцы ног. Я брела вперед, пока вода не дошла до пояса. И тут, почувствовав течение, резко дернулась, как собака на поводу. Господи, оно уже катило во всю мощь! Вытянула руку, уперлась в первый столб, оттолкнулась от него в сторону течения, сделала еще шаг. Я знала, что прямо впереди — яма, то место, с которого этот, еще мелкий край Луары обрывается куда-то в тартарары. Когда Кассис отправлялся в подобный заплыв, в этом месте он вечно притворялся, будто тонет, всплывал животом вверх на поверхность мутной воды, бил руками, орал, отплевываясь бурой луарской водой. Вечно он, хотя придуривался неоднократно, сбивал Рен с панталыку, она каждый раз, едва он погружался с головой под воду, в ужасе визжала.