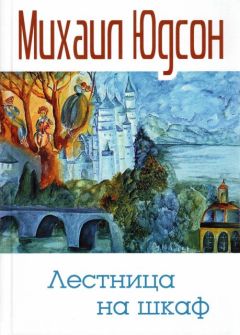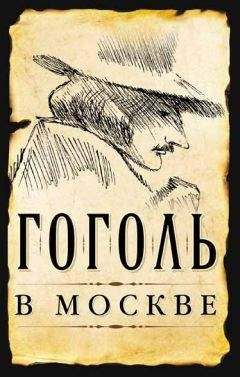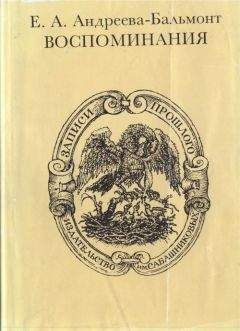Я с понятным скепсисом раскрыл эту книгу, хорошо себе представляя уровень эмигрантской прозы — уровень как моральный, так и эстетический (что ни говори, а это вещи связанные). Однако уже первые ее страницы убедили меня в том, что эмигрантской прозой тут и не пахнет. От себя-то не уедешь, а еврейский прозаик Михаил Юдсон — прежде всего хороший русский писатель. И как тебе ни больно, когда бьют сапогом под ребро, как ни достал тебя этот климат, ложь и лицемерие на всех этажах жизни и полное отсутствие исторического прогресса, — сделать из всего этого настоящую литературу, сдается мне, возможно только здесь. Очень уж коллизия интересная. Всякую Отчизну сладостно ненавидеть, но никакая другая Отчизна не дает для этого столько поводов и не подзуживает с таким сладострастием: ну возненавидь меня, ну возненавидь!
А вот не буду.
P.S. Я написал все это восемь лет назад, когда в России только-только вышла «Лестница на шкаф», точней, первые две ее части. Вышли они у Александра Житинского — первоклассного писателя и чуткого издателя — в «Геликоне» и довольно быстро стяжали скандальную и двусмысленную славу. Раскрою это красивое словосочетание: сложилась ситуация, когда все Юдсона знают (по крайней мере слышали), но никто не хочет его печатать. «Лестницу» в конце концов переиздало ОГИ — но опять, увы, ничтожным тиражом. И опять все говорили одно и то же: «Очень талантливо, но нельзя же так».
За это время я успел познакомиться и сдружиться с самим Юдсоном — деликатным, кротким, но язвительным человеком, безвыездно живущим в Израиле (и даже с его очень красивой дочкой, живущей в Волгограде). Известно было, что он медленно и тяжело, как всегда, и даже тяжелее, чем всегда, дописывает третью часть «Лестницы» — уже про Израиль. И куда он переедет после этого — представить уже невозможно. А как дальше жить в описанных им странах — я тем более не представляю, потому что убьют же. Юдсон наделен способностью видеть вещи на редкость объективно и описывать их с той выразительной сжатостью, с теми гротескными преувеличениями и карикатурными дорисовками, которые точней любой фактографии передают самый дух времени и места. Такое ведь не прощается. Даже я, искренне его любящий, не могу ему простить кое-что, сказанное о России, в которой я живу и жить буду. Горькая моя обида отчасти компенсируется наслаждением от чтения — Юдсон ведь не просто кощунствует, он выговаривает вслух то, что все мы понимаем, да сформулировать боимся. И читать это, конечно, очень приятно, и здорово облегчает душу, и вскрывает давние нарывы, — а все-таки и мне иной раз хочется сказать, как в анекдоте про строителя, на которого раскаленным металлом брызнул сварщик: «Миша, ну нехорошо!»
Поэтому третьей части «Лестницы» я ждал с особенным трепетом. Особенно было бы неприятно, если бы Юдсон, наждачком прошедшийся по России и напильничком — по Германии, об Израиле написал бы восторженно, как о трогательной и безупречной обретенной Родине. Но вот он закончил эту огромную третью часть, и прислал ее мне, и я вижу, что она получилась лучшей. Потому, вероятно, что самой личной и потому самой мучительной. Я не большой поклонник государства Израиль, но не испытываю ни малейшего злорадства при виде его трудной судьбы — в конце концов, там живет много моих друзей, которых есть за что уважать. И уровень боли в этой третьей части зашкаливает, но желчи и оскорбленной любви в ней не меньше, а то и больше, чем в первых двух.
Юдсон написал одну из главных книг нашего времени — книгу о крахе всех национальных (и вообще внешних) идентификаций, о том, что национальная принадлежность кончилась, что главное для любого настоящего человека — вышагнуть из всех этих имманентностей, изначальностей, данностей, невзирая на вопли ничтожеств, которые только за эти примитивные вещи и цепляются. Националисты, мачисты и феминистки, религиозные маньяки — все они назовут этот шаг (а точнее, взлет, как у Юдсона) предательством, и никого из них не надо слушать. Юдсон пишет о том, как мир выталкивает человека — в те высшие сферы, в которые в конце концов и уносится герой. Впрочем, думаю, что и там ему не все понравится.
Правда и то, что эту третью часть было, вероятно, трудней всего писать — и поэтому ее трудней всего читать: здесь густота языка, плотность метафор, намеков, аллюзий, цитат и каламбуров не то чтобы утомляют, но как-то уже всерьез тормозят повествование. Оно засахаривается, как варенье. Сквозь него продираешься. Но ничего не поделаешь — Юдсон живет вдали от родного языка, да и в жизни своей, отшельнической и одинокой, разговаривает, кажется, все больше сам с собой. Это его выбор, у этого выбора свои преимущества, но и свои издержки. Это уже не разговор с читателем-другом, а зачастую, чего там, воспаленное, бредовое бормотание. Но в него стоит вслушаться, проследить его логику — бормочет-то ведь не городской безумец, а странник, прошедший через многие времена, страны и соблазны. Проза Юдсона стоит того, чтобы потратить на нее нешуточное читательское усилие: читатель с этой книгой растет. О негладком, шершавом опыте не расскажешь гладкописью: Юдсон — и его герой — также продирается через мир, как нам с вами предстоит ломиться сквозь его плотную прозу. Тем ослепительнее финальная легкость, обещанное и свершившееся освобождение.
Я очень люблю Юдсона, честно говоря, и считаю его одним из самых талантливых современников. При его жизни, всегда увлекательной, но никогда не легкой, написать такую трилогию — пожалуй, настоящий литературный подвиг. Никаких гарантий, что напечатают, у него не было, и в самом деле рукопись три года промытарилась, пока не нашла смелого издателя. Я хочу, чтобы эта книга вас задела, разозлила, а в идеале взбесила. Сильный текст заслуживает сильной реакции. Не сомневаюсь, однако, что будет время, когда «Лестница на шкаф» будет стоять в ряду бесспорных шедевров, главных книг нашего века. У нас есть шанс понять это при жизни автора и сказать ему со всей искренностью: «Ай да сукин сын».
Дмитрий Быков