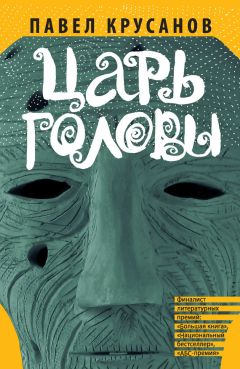Помимо этого там имелись специальные и совершенно непостижимые для непричастных к геологической науке кренделей сведения о тектонических блоках и их сочленениях, о каких-то вороватых плагиогранитах и лицедействующих амфиболитах, об ужасных зонах катаклаза и даже о сравнительно невинной, но ничего не говорящей непосвященному температуре на забое.
Так вот, всю эту развесистую клюкву, кропотливо переложенную полиглотом “Танатоса” на не слишком требовательный англо-научный диалект, мы и заслали в “Nature”. Пусть читают.
3
Ужинали мы у Пяти углов в небольшой китайской харчевне с портовым названием “Цветочная джонка”. Уж если выбирать, то ухищрения китайской кухни все же занятнее, чем кулинарная простота каких-нибудь островитян. Я имею в виду английскую отбивную вполсыра и японскую парную рыбу – пусть лакомятся ею самураи-саморезы, а у нас, между прочим, корюшку с крючка даже нищие не едят.
Пока я перелистывал меню в эрзац-кожаной папке, Оля отворила створки пудреницы и целую минуту исследовала в зеркальце свое отражение.
– У нас с тобой много общего, – заметил я. – Например, объект любви.
Мы оба любим тебя.
– Ах, если б так! – вздохнула Оля. – Мне кажется, ты бы любил меня больше, будь я жесткокрылой.
Бесстыдная ложь. В противном случае я бы называл ее не стрекозой люткой, а как-нибудь иначе, скажем, ивовой козявкой или красногрудой пьявицей. Словом, ее ответ меня немного озадачил. Я ожидал услышать что-то вроде: “Да нет (как нравится нам соединять в одно и утверждение и отрицание, чтобы сам черт не разобрался), я люблю
тебя” и следом – интимный комплимент, от которого пульс начинает биться сразу всюду, и безешка со вкусом перламутровой помады, снимающая последние сомнения в притворстве. И все – снова горяча кровь и густы чувства… По крайней мере эта победительная тактика была мне хорошо знакома.
– Ты лучше посмотри, кто там за столиком в углу, – пресекла мою рефлексию Оля.
Она, оказывается, употребила пудреницу в целях обследования пространства – чтобы понизить риск внезапных встреч. Бывают люди, которые появляются всегда не вовремя, точно зубная боль. Иногда их следует расценивать как испытание. Но женщины предпочитают всякий миг встречать во всеоружии.
Я посмотрел Оле за спину и обнаружил в дальнем углу за столиком Вову
Белобокина, который под бумажным фонарем и портретом Мао Цзэдуна в красной раме беседовал с Анфисой – “фильтром” из “Лемминкяйнена”.
Белобокин был известным в питерских художественных кругах многостаночником – музыкантом, актуальным мазилкой и скульптором, в свое время активно подвизавшимся на Пушкинской-10 и даже успевшим заявить о себе на международном поприще. Например, он был автором идеи возведения в Нью-Йорке на месте истребленных башен-близнецов небоскреба по неосуществленному проекту архитектора Гауди, а рядом – башни архитектора Татлина. Предложение это даже обсуждалось в нью-йоркской мэрии, однако было отбраковано по соображениям не эстетического, но идеологического свойства – получалось, что экстремизм расчищает путь для триумфального шествия искусства по жизни, а это никуда не годилось. Кроме того, когда компания “British
Petroleum” в порядке легкого бреда объявила конкурс на проект памятника Винни Пуху, Белобокина угораздило войти в шестерку финалистов, поскольку он провозгласил себя автором всех на свете кучевых облаков, которые, в действительности, не что иное, как самые большие и самые доступные для обозрения кинетические памятники Винни
Пуху.
Вова Белобокин был резок в общении, проницателен и умен каким-то особенным, изобретательным, но несбыточным умом – из порожденных им художественных проектов воплощался лишь один на сотню. В голове
Белобокина постоянно роились несусветные замыслы, причем не только музыкального, живописного или скульптурного характера: он знал толк во всевозможных провокациях, мог легко вогнать девицу в краску, а малознакомого собеседника артистично довести до истерики, что, надо сказать, особенно любил. Помимо того он время от времени эпатировал публику дурными манерами – например, начинал часто сморкаться в салфетки и кидать их горой в пепельницу. При этом он вовсе не относился к тому типу людей, у которых презрение опережает знание, он просто считал, что полнее и быстрее всего человека можно узнать в чрезвычайных обстоятельствах, и всячески эти обстоятельства вокруг себя плодил. Все его жены, которых у него покуда было три, по очереди сбегали от него вместе с совместно нажитыми детьми, хотя как раз ребенок рядом с ним скорее всего был бы в безопасности.
Возможно, он не был бы ухожен и в срок накормлен, но и гнет ханжества ему бы не грозил. К старым знакомым Белобокин был милосерден, однако и тем расслабляться не стоило – мягкотелость этот плут не любил и слабость наказывал. Беда в том, что в последние годы
Белобокин разом много пил, пыхал и баловался грибами, а у жизни есть странное правило – побеждает не тот, кто красиво стартует, а тот, кто красиво финиширует.
Мы были с ним давними приятелями. Следовательно, знала его и Оля.
Пару раз она испробовала на себе его ядовитый нрав и, как писал поморский соловей Шергин, “этой Скарапеи не залюбила”: Оля считала
Вову человеком дрянным, ненужным и опасным, как осколок разбитой бутылки. Возможно, для многих он и вправду был таким. То есть кое-какие основания для тревоги лютка все-таки имела, но врасплох ее благодаря пудренице было уже не взять.
Странно, что нонконформист Белобокин, категорический противник общества потребления с его желудочно-кишечной цивилизацией, оказался в компании деловой дамы Анфисы да еще что-то живо с ней обсуждал, воодушевленно размахивая зажатыми в пальцах палочками. При этом на их столике стоял графин с водкой и утка по-пекински в хитроумной ярусной вазе.
Впрочем, ничего странного. Еще в конце восьмидесятых Вова, как лидер группы “Голубые персты”, прославился песней с такими буквами:
Хорошенькие девочки на склоне эскалатора
Достанутся колхознику, ударнику, новатору,
А нам с тобой достанется, что после них останется,
Но с нас с тобой не станется, с нас с тобой не станется -
Нам этого хватит.
– Кто с ним? – не глядя в угол, повела бровью Оля. С Анфисой она была не знакома.
– Да так, – небрежно отозвался я, – одна поклонница индийской анимации.
К нам подошла официантка и навострила карандаш.
Оля заказала морских гадов с сельдереем и острую жареную рыбу по-сычуаньски, а я – форель по-гуандунски и “гу лао жоу” – такое мясо с ананасом. Плюс бутылку пино-нуар и бутылку рислинга – Оля любила белое вино и могла пить его хоть под узбекский плов, хоть под имеретинские купаты.
Нам даже успели подать холодное, прежде чем Белобокин нас заметил.
Реакция его была по обыкновению буйной – он подошел стремительно, раскинул руки, я встал ему навстречу, мы театрально обнялись и обменялись троекратным русским поцелуем. Оля тихо фыркнула – ей однополые лобзания претили.
– Что нового? – Я спрашивал не из одной любезности – порой, как было сказано, Вова изобретал довольно забавные штуки.
– Новости в газете, Мальчик.
– Газет не читаю, Белобокин. Это – свидетельство здоровой иммунной системы, ведь избыток информации разрушает личность.
– Тогда новости две. – Вова с нарочитой галантностью (его жесты на публике становились демонстративными) кивнул Оле. – Комиссия
Конгресса по расследованию судьбы бен Ладена выяснила, что морские пехотинцы еще в две тысячи втором изловили его в Торо-Боро, живьем зашили в тушу выпотрошенной свиньи и закопали в землю.
– Зачем так сложно? – удивилась Оля.
– Чтобы его душа из свиного гроба не улизнула в сады благодати.
В результате эксгумации установили, что душу бен Ладена вместе с телом и гробом сожрали черви.
– Живьем зашили и закопали? – притворно усомнился я. – Без адвоката и суда?
– Двойные стандарты. И потом, желание сделать подлость порой бывает просто непреодолимым. – Белобокин пожал плечами: мол, что же ты хотел от этих мормонов? – Все материалы пока засекречены, но мне было видение. Я даже холст накрасил – “Усама во чреве”.
Вот этим он и подкупал: вещный, предметный мир отступал перед ним куда-то на периферию бытия, на кромку реальности, а освободившуюся территорию заполняли миражи, отсветы, эхо… Он уходил от жизни не в искусство, а в пеструю, ершистую, насмешливую иллюзию, где, наверное, не всегда было комфортно, но где он от начала до конца был хозяином, так как не считал необходимым ее, иллюзию, материализовывать. Поэтому его не было жалко. А вот его коллег по цеху стоило бы пожалеть: они уходили от жизни в искусство и находили там то, от чего бежали, – отвратительные сцены тщеславия и дикой погони за прибылью.
– А вторая новость? – Я все еще стоял, не зная – приглашать его за наш с Олей столик или нет.