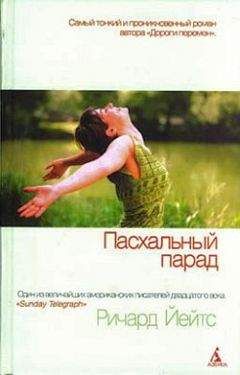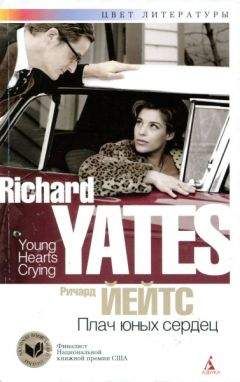Стоит ли после этого удивляться, что все знаменитые писатели, родившиеся на Среднем Западе, бежали оттуда при первой возможности? В дальнейшем они могли предаваться элегическим воспоминаниям, но все это не более чем ностальгия, а возвращаться в родные места никто из них почему-то не спешил.
Как человек с Восточного побережья, родившийся в Нью-Йорке, я получала огромное удовольствие, вводя этих отбившихся от стада, потерянных «среднезападников» в свой мир. Я объясняла им: вот как мы здесь
— Твоя идея — это большой секрет? — спросил Джек из противоположного угла. — Или расскажешь?
— Да это просто… даже не знаю, как сказать. Может, это будет статья для журнала.
— Да?
— А пока что я просто валяю дурака.
— Ну-ну. Прям как я.
По понедельникам и четвергам он уезжал в кампус и возвращался всегда на эмоциях — подавленный или, наоборот, радостно возбужденный, в зависимости от того, как прошел его класс.
— Ох уж эти дети, — проворчал он однажды, наливая себе выпивку. — Сукины дети. Им только дай палец — откусят руку.
Пил он много, даже будучи в хорошем настроении, зато делался более общительным.
— Я тебе, подружка, так скажу. Работенка у меня — не бей лежачего. Два часа болтаешь, что на ум взбредет, а они сидят с открытым ртом, как будто в жизни ничего подобного не слыхали.
— Очень может быть, — отвечала Эмили. — Я думаю, тебе есть чему их учить. Меня, например, ты многому научил.
— Правда? — Он выглядел смущенным и весьма польщенным. — Ты говоришь о стихах?
— Я говорю обо всем. Об этом мире. О жизни.
В тот вечер они наскоро поужинали, так им обоим не терпелось побыстрее плюхнуться в постель.
— Эмили, детка, — он гладил ее, играл с ее телом, — знаешь, кто ты? Я часто повторяю «ты чудо», или «ты прелесть», или «ты восхитительна», но это все не то. Знаешь, кто ты на самом деле? Ты — волшебство. Ты — волшебство.
Когда он повторил это в энный раз, Эмили не выдержала:
— Джек, не надо…
— Почему?
— Потому что слова имеют свойство приедаться.
— Вот как? О'кей. — Он выглядел обиженным. Но таким счастливым, как неделю спустя, когда он вернулся после класса на три часа позже обычного, она его еще не видела.
— Извини, детка, — начал он с порога. — После занятия я зашел выпить с одним из моих студентов. Ты поужинала?
— Нет. Всё в духовке.
— Черт! Надо было тебе позвонить, но я не смотрел на часы.
— Ничего страшного.
Пока они ели пересохшие свиные отбивные, которые Джек запивал бурбоном с водой, он говорил не умолкая.
— Ну и дела. У меня в классе есть такой Джим Максвелл, я тебе о нем рассказывал?
— Что-то не припоминаю.
— Здоровый крепкий парень из техасской глубинки. Ковбойские сапоги и все, что полагается. Меня всегда немного пугали его вопросы — он парень жесткий и очень умный. К тому же отличный поэт… во всяком случае, на подходе. Короче, дождавшись, когда его сокурсники уйдут из бара и мы с ним останемся вдвоем, он поглядел на меня с прищуром и сказал, что должен мне кое в чем признаться. Детка, мне даже как-то неловко. В общем, он сказал, что моя первая книга изменила его жизнь. Ни черта себе, да?
— Да уж. Высокая похвала.
— У меня это просто не выходит из головы. Представляешь, мои стихи изменили жизнь совершенно незнакомого человека из южного Техаса! — Он отправил в рот кусок свинины и заработал челюстями с видимым удовольствием.
В начале ноября он признался, а точнее, безапелляционно заявил, что его работа пробуксовывает. В течение дня он то и дело вскакивал из-за стола и принимался мерить шагами комнату, швыряя в потухший камин окурки (чтобы сжечь дотла эту гору, приходилось подбросить в огонь не одно полено) и риторически восклицая: «Кто сказал, что я поэт?»
— Я могу прочесть что-нибудь из того, что ты написал? — спросила она однажды.
— Нет. Ты потеряешь ко мне последнюю каплю уважения. Сказать тебе, что это? Стишки, к тому же плохие. Тара-рам-там-там, тара-рам-пум-пам. Мне надо было сочинять песенки в тридцатые годы, хотя не факт, что даже это у меня бы получилось. Таких, как я, понадобилась бы целая команда, чтобы получился один Ирвинг Берлин. — Он стоял, весь поникший, у огромного окна, глядя на жухлую траву и голые деревья. — Я как-то прочитал интервью с Берлином. Журналист спросил его, чего он боится больше всего на свете, и он ответил: «Что однажды я протяну руку за сокровищем, а его там не окажется». Это про меня, детка. Сокровище было моим, я чувствовал это, как чувствуют кровь в жилах, а теперь я тянусь, тянусь за ним, а его там нет.
А потом потянулась затяжная снежная зима. Джек уехал в Нью-Йорк, чтобы провести Рождество с детьми, и она оказалась предоставлена самой себе. Поначалу было одиноко, но затем она начала получать от этого удовольствие. Она снова взялась за статью, однако такие вроде бы ладные, хорошо пригнанные фразы вели в никуда. А на третий день она получила взволнованное рождественское письмо от сестры. Все мысли Эмили так долго были заняты исключительно Джеком Фландерсом, что сейчас, читая это письмо, она будто заново и не без удовольствия возвращалась к самой себе.
В «Большой усадьбе» всё хорошо, все шлют тебе приветы. В последнее время Тони много работает сверхурочно, так что мы его почти не видим. У мальчиков дела идут отлично…
Свой аккуратный девичий почерк Сара выработала в школе и сохранила на всю жизнь. («У тебя милый почерк, дорогая, — говорила ей Пуки, — но есть в нем какая-то нарочитость. Ничего, с годами он станет более изощренным».) Эмили пробежала глазами второстепенные подробности письма и наконец дошла до главного:
Как тебе, вероятно, известно, Пуки потеряла работу — агентство по продаже недвижимости обанкротилось, — и все мы, естественно, за нее сильно переживали. И вот Джеффри пришло в голову очень благородное решение. У него над гаражом есть помещение, которое он сейчас переделывает в уютную квартирку, где она сможет жить совершенно бесплатно, на полагающуюся ей пенсию. Тони считает, что ее присутствие здесь создаст определенные неудобства, и я с ним в принципе согласна — нет, я ее, конечно, люблю, но ты меня понимаешь, — ну ничего, как-нибудь.
И еще одна грандиозная новость: нам скоро достанется «Большая усадьба». Весной Джеффри с Эдной перебираются в Нью-Йорк — она в последнее время болеет, а он устал ездить туда-сюда и хочет жить поближе к своему офису. Когда это произойдет, мы сразу въедем, а коттедж сдадим в аренду, так как с деньгами очень туго. Представляешь, мне придется управляться с таким огромным домом?
Рукопись о Джордже Фолле пришлось положить на полку; я поняла, что, не видя своими глазами тех краев, я далеко не продвинусь. Ты можешь представить меня в Монтане? Это не значит, что я ничего не пишу; я задумала серию юмористических очерков из семейной жизни — в духе Корнелии Отис Скиннер. Я восхищаюсь тем, как она пишет.
Дальше следовало продолжение — Сара всегда заканчивала письма на высокой ноте, даже если ей приходилось делать для этого усилие, — но грустная суть послания из Сент-Чарльза сомнений не вызывала.
Из Нью-Йорка Джек вернулся с самыми благородными устремлениями. Отныне никаких баклуш и ночных возлияний. А главное, повышенного внимания к работам студентов в ущерб его собственной.
Дело дошло до того, что он чуть ли не каждый день корпит над их рукописями! Куда это годится?
— Вот что, Эмили, я тебе скажу. Во время этой поездки я многое обдумал. Отъезд пошел мне на пользу, я посмотрел на вещи в перспективе. Так вот, книга практически сложилась в моей голове. Единственное, что может мне помешать закончить ее к лету, так это моя лень. При правильном отношении к делу и наличии удачи — куда же без нее? — все будет.
— Отлично, Джек.
Зима тянулась бесконечно. Котел парового отопления дважды выходил из строя, и они жались друг у другу, сидя перед камином в свитерах и теплых куртках, да еще завернувшись в одеяла. Три раза ломалась машина. Но даже когда все было в исправности, суровых неудобств хватало. Перед каждой поездкой в город приходилось влезать в шерстяные носки и тяжелые сапоги и кутаться в теплый шарф до подбородка, дрожать в машине, пока прогреется салон, и дышать бензиновыми парами, а потом ехать четыре мили по опасным припорошенным наледям, под нависшим сводом, таким же белым, как падающий снег.
В один прекрасный день, наскоро разделавшись с супермаркетом, — она научилась быстрыми заученными движениями набирать в тележку все, что надо, и уходить, прежде чем этот процесс нагонит на нее тоску, — Эмили долго сидела в прачечной самообслуживания среди сияющих стен и облачков пара. Сначала она наблюдала в круглое окошко за круговоротом пенящейся воды и разных тряпочек, а затем стала посматривать на других клиентов, пытаясь угадать, кто из них студенты, а кто преподаватели, кто городской, а кто живет за городом. Потом она купила шоколадный батончик, оказавшийся на удивление вкусным; можно было подумать, она весь день мечтала о том, чтобы сидеть в людной прачечной самообслуживания и поедать шоколадный батончик. В ожидании, когда закончится цикл отжима, она начала испытывать смутную тревогу, и только позже, разбирая вещи на раскладном столике, покрытом хлопковым пухом, до нее дошло: она не хотела ехать. И дело было не в обледеневшей дороге, которой она так боялась, а в нежелании возвращаться домой, к Джеку.