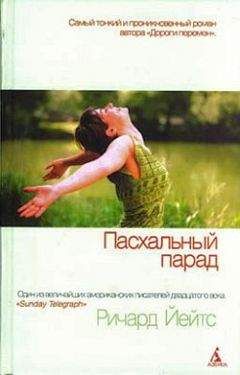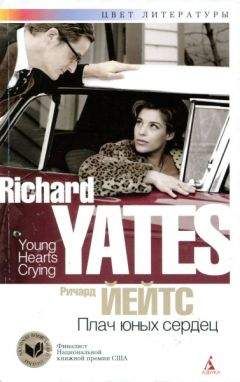— Этот чертов Крюгер, — начал он, вваливаясь в дом темным февральским вечером. — Так бы и двинул ему по яйцам, если они у него, конечно, есть.
— Ты говоришь о Билле Крюгере?
— Да, да, о Билле. Об этом жеманном сучонке с ямочкой на подбородке, с милейшей женушкой и тремя жеманными дочурками. — Он умолк, чтобы налить себе полный стакан и тут же выпить половину. А затем, уперев большой палец в висок, а ладонь приложив козырьком к бровям, словно боясь, что она может увидеть его глаза, он сказал: — Детка, пойми. Я для них «традиционалист». Я люблю Китса, Йейтса, Хопкинса — ну, ты сама знаешь. А Крюгера они называют «экспериментатором», потому что он выкинул все каноны к чертовой матери. Его излюбленный эпитет «смело». Кто-то обкурился и нацарапал на бумаге первое, что пришло ему в голову, а Крюгер ему: «Мм… это смело». Все его студенты как на подбор самые наглые и безответственные. Их послушать, настоящий поэт — это тот, кто одевается как клоун и пишет наискосок. Крюгер уже выпустил три книжки, и четвертая на подходе; какой журнал ни раскрой, всюду этот мудак. Даже открывать не надо, и так известно, что он там будет — Уильям Дребаный Крюгер. А главный прикол, детка, самая убойная фраза в этом анекдоте знаешь какая? Этот сукин кот на девять лет моложе меня.
— Но… что все-таки случилось?
— Сегодня был так называемый День святого Валентина. В университетской среде это означает, что раздаются «листы предпочтений», студенты пишут, у кого они хотели бы заниматься в следующем семестре, а потом преподаватели в своем кругу разбирают итоги голосования. Полагается делать вид, что это никого не волнует, поэтому все ведут себя очень непринужденно, но видела бы ты эти красные лица и дрожащие руки. Короче, четыре моих студента ушли к Крюгеру. Четыре. Включая Харви Клайна.
— Ясно.
Она не знала, кто такой Харви Клайн, — во время университетских вечеринок она многое пропускала мимо ушей, — но, вне всяких сомнений, это был тот случай, когда от нее ждали утешения.
— Джек, послушай. Я понимаю, что ты расстроен, но, по-моему, напрасно. Если бы я была студенткой вашей мастерской, я бы постаралась попасть в классы к самым разным преподавателям. Разве это не логично?
— Не очень.
— И потом… ты приехал сюда не для того, чтобы изо всех сил ненавидеть Крюгера, и даже не для того, чтобы учить Харви Клайна. Ты приехал сюда, чтобы самому что-то сделать.
Он оторвал ладонь ото лба и, сжав пальцы в кулак, вдруг обрушил его на столик, так что Эмили подпрыгнула от неожиданности.
— Ты абсолютно права. Единственное, что должно занимать мои мысли день за днем, — это моя чертова книга. И сейчас, если выдалось свободных полчаса до ужина, мне следовало бы сидеть за рабочим столом, а не изливать на тебя всю эту желчную банальщину. Ты права, детка. Спасибо тебе, что ты открыла мне глаза.
Остаток вечера он провел в мрачном непроницаемом молчании. В ту ночь или в одну из последующих она проснулась часа в три, почувствовав, что его нет рядом. Она услышала, как он расхаживает по кухне и бросает в стакан кубики льда. В спальне было накурено так, словно он дымил не один час.
— Джек? — позвала она.
— Извини, что я тебя разбудил, — отозвался он.
— Ничего. Ложись в кровать.
Он вернулся в спальню, но не лег. Вместо этого он присел в халате — в темноте вырисовывался лишь его согбенный силуэт, и долгое время в тишине дома раздавалось лишь его нудное покашливание.
— Это не я, детка, — выдавил он наконец из себя. — Нет, это не я.
— Что значит — не ты? А кто же тогда?
— Господи, если бы ты знала меня, когда я работал над первой книжкой и даже над второй. Вот тогда это был я. От меня веяло силой. Я знал, что делаю, и делал это, а все остальное прилагалось. Я не хныкал, не рычал, не вопил и не дергался постоянно. Я тогда не был человеком без кожи, озабоченным тем, что люди обо мне думают. И вообще… — он понизил голос, словно давая понять, что сейчас раскроет главную, убийственную правду, — я не был сорокатрехлетним.
С приходом весны стало как-то полегче. Много дней подряд над головой синело чистое небо, на полях и даже в лесу сходил снег, и как-то утром, перед отъездом на занятия, Джек ворвался в дом с известием, что во дворе пробился первый крокус.
Каждый день, под вечер, они теперь долго гуляли — по грунтовой дороге, лугами, под сенью высоких деревьев. Хотя оба в основном хранили молчание — Джек обычно шагал в глубокой задумчивости, голова опущена, руки в карманах, — для Эмили эти прогулки вскоре стали чем-то поистине важным. Они вызывали у нее такое же воодушевление, как у него — выпивка по возвращении домой. Каждый раз она с растущим нетерпением ждала минуты, когда она наконец наденет свой замшевый пиджак и подойдет к Джеку со словами:
— Не хочешь прогуляться?
— Прогуляться, — повторит он и с видимым удовольствием бросит карандаш. — Слушай, отличная идея.
Эти прогулки сделались еще увлекательнее, после того как от соседей им досталась собака, бело-коричневый нечистокровный терьер по кличке Синди. Она бежала вприпрыжку рядом с ними или наматывала вокруг них круги, показывая себя во всем блеске, или убегала в поле, чтобы там рыть норы.
— Гляди, Джек, — сказала Эмили, хватая его за локоть. — Она залезла в трубу под дорогой. Кажется, она собирается проползти ее насквозь! — Когда же собака, вся грязная и дрожащая, выскочила из противоположного отверстия, Эмили захлопала в ладоши. — Молодец, Синди! Умница! Хорошая собака! Джек, правда, это было здорово?
— Да уж.
Один из ветреных апрельских дней особенно им запомнился. В тот день они забрели дальше обычного и, возвращаясь назад широким, изрезанным бороздами полем, усталые, но взбодренные, вышли к одинокому дубу, который, подобно мощной кисти с раскрытой пятерней, устремлялся в небо. Притихшие, они замерли в его тени, глядя вверх сквозь голые ветви, и эта идея родилась в голове Эмили, как они потом вспоминали. Она сняла замшевый пиджак и бросила его на землю. С улыбкой на губах, смотря в упор на Джека, — в эти минуты, когда ветер трепал его челку, он показался ей весьма красивым, — она начала расстегивать пуговицы на блузке.
В считаные секунды оба разделись и оказались на коленях, в объятиях друг друга. Затем он опустил ее на влажную землю, приговаривая: «О детка». Оба понимали, что если кто-то рискнет приблизиться к этому священному месту, Синди тут же поднимет лай.
Спустя полчаса, когда они уже были дома, он поднял смущенный взгляд от стакана с виски и сказал:
— Bay. Это было… нечто.
— Знаешь, — она опустила глаза, чувствуя, что краснеет, — какой смысл жить в деревне, если не устраивать себе хотя бы изредка подобные приключения?
Весь следующий месяц почти непрерывно лил дождь. Дорожка от входной двери до машины была усеяна мертвыми земляными червями. К оконному стеклу прилипали прошлогодние листья, тут же смываемые потоками воды. Эмили часами сидела у венецианского окна, иногда читая, а чаще просто глядя на дождь.
— Что ты там видишь? — спрашивал ее Джек.
— Ничего особенного. Так, думаю.
— О чем же ты думаешь?
— Сама не знаю. Надо съездить в прачечную.
— Успеется. Если тебя что-то беспокоит, я хочу знать.
— Нет, ничего не беспокоит.
Она встала, чтобы пойти собрать вещи в стирку. Уже на обратном пути, когда она проходила мимо его рабочего стола с тяжелым баулом, он поднял глаза:
— Эмили?
— Мм?
Полуулыбка на лице этого сорокатрехлетнего мужчины на мгновение превратила его в беспомощного ребенка.
— Ты меня еще любишь?
— Ну разумеется, — ответила она и сняла с вешалки дождевик.
В конце весеннего семестра он объявил, что книга, в сущности, закончена. Но в его словах не звучали триумфаторские или хотя бы счастливые нотки.
— Понимаешь, я еще не готов отослать рукопись в издательство, — объяснил он. — Важная часть работы, я считаю, сделана, однако кое-что надо подсократить, кое-что подправить. Я думаю, будет правильно подержать стихи до сентября и за лето довести их до кондиции.
— Что ж, — одобрила она, — у тебя впереди целых три месяца без студентов.
— Вот именно. Только я не хочу оставаться здесь. Жара несусветная, все разъедутся. А знаешь, сколько у нас денег в банке? На эти деньги мы можем куда-нибудь махнуть.
В голове у нее промелькнули две картинки: морской прибой, разбивающийся о скалы, белый песок, словом, Восточное или Западное побережье, и горная гряда в облаках, красных от закатного солнца. Интересно, любовь на пляже или в горах будет покруче, чем под айовским дубом?
— И куда же ты хочешь махнуть? — спросила она.
— К этому я и веду, детка. — То, как он на нее посмотрел, напомнило ей отца в рождественское утро, когда они с Сарой в нетерпении разрывали красивую оберточную бумагу на подарках, и под ней обнаруживалось именно то, чего они так жаждали. — Как ты насчет Европы?