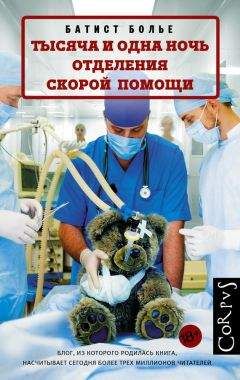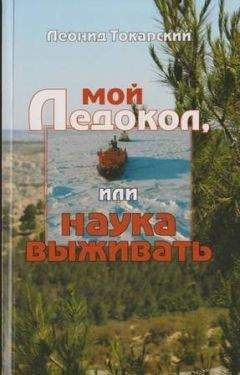Чащин не понимал, зачем тревоги, зачем походы по флангам, одуревший от тоски часовой, который все равно не предупредит, если что. Зачем эта бесконечная, изматывающая игра? И кто полезет через границу? Тем более – с Финляндией. Повсюду пооткрывались таможенные проходы – в
Светлогорске, в Вяртсиле, да возле каждого крупного приграничного поселения. Пропускали любого – хоть с документами, хоть без. Наши погранцы брали за пропуск блок сигарет, финские – три батла водки. А тут отдавай офицеру честь и притворяйся, что ты бравый боец, топчи эти тропы и делай вид, что граница на замке.
И пока Чащин ходил по тылам и флангам младшим, он мог лишь ворчать, но как только назначили старшим – решил забить на приказ. И сразу же поплатился.
На губу не отправили – застава боролась за звание образцовой, – угрозы насчет прокурорского надзора тем более остались просто угрозами, но попотеть, помучаться, принять несносные для деда унижения Чащину все же пришлось.
Сначала гонял Пикшеев. ОЗК, противогаз, полный боекомплект плюс пятнадцатикилограммовая рация на спине; окапывание саперной лопаткой, отжимание, подтягивание, марш-бросок… Чащин демонстративно не выполнял ни одного норматива, чем доводил зампобою до истерики. Даже побаивался, что от визга у Пикшеева что-нибудь лопнет в голове… И все-таки победил, и около часа ночи был отпущен спать.
За два часа до подъема его взял в оборот прапор. Для начала велел подмести плац, протереть запылившиеся стенды с марширующими по уставу солдатами. А потом отвел к летнему сортиру и поставил задачу вычистить выгребную яму… На заставе имелся вполне цивилизованный, с фаянсовыми о€чками и сливом, туалет, но в теплое время года его запирали, и личный состав справлял нужду в деревянном щелястом строении.
Прапор выдал двенадцатилитровое ведро и веревку, указал место, куда таскать – болотистый овражек метрах в двухстах от заставы.
– А рукавицы дайте, – попросил Чащин.
– Ничего, без них веселее. – Прапор сел поодаль, на врытую в землю покрышку для физических занятий, закурил. – Приступай, не стесняйся.
Было раннее утро понедельника, кончался август. Чуть больше месяца оставалось до приказа об увольнении – до дембеля. В каптерке у
Чащина стоял наготове дипломат с кое-какими вещами, на плечиках висела пусть не забацанная – без аксельбантов, вставок в погоны, ручной работы шеврона, без кованых крабиков на петлицах, – но чистая и отглаженная парадка…
Спускал ведро в отверстие, зачерпывал желтовато-коричневую, с черными клочьями раскисших газетных обрывков жижу, поднимал и, икнув от отвращения, обнимал склизкую дужку ведра пальцами… Если ведро было не совсем полным, прапор возвращал, заставлял зачерпывать по новой – “не скупись”. А потом, когда Чащин тащил ведро, бросал пожелания-приказы:
– Не расплескивай. Аккуратненько.
Поначалу запах был терпимый – Чащин работал с верхним, свежим слоем,
– потом началась синева. Вроде бы и не особо вонюче, но так, что в животе сжималось и посылало вверх рвотные спазмы. Хорошо, что желудок был пустой…
– Товарищ прапорщик, – Чащин не выдержал, – разрешите за противогазом сбегать.
– Слушай, боец, может, тебе женщину в целлофане?
– Ясно…
Еще ведро, минут десять, изо всех сил не спеша, до овражка… А если исчезнуть? Уйти по лесу куда-нибудь, забиться в одном из многочисленных ДОСов? Свернуться на сухом полу, уснуть. Пускай ищут… А что потом?.. Осторожно, чтоб не обрызгаться, Чащин выливал жижу и брел обратно. Минут пять отдыха.
– Разрешите перекурить?
– Дочистишь – перекуришь, – с издевательским великодушием отозвался прапор. – Перед свинарником.
Но до свинарника не дошло. Даже сортиром не успели по-настоящему загнобить. Часа через полтора на крыльцо выскочил дежурный – сержант
Саня Гурьянов, – необычно для себя заполошно крикнул:
– Товарищ прапорщик, срочно в канцелярию! Очень срочно!
Прапор поднялся:
– Продолжай. И без перекуров! – Пошел и тут же остановился. – Что нужно ответить?
– Есть.
Конечно, как только он скрылся, Чащин забежал за сортир, вытер о траву руки, вытряхнул из мятой пачки “памирину”. Несколько раз затянулся, с удовольствием выдохнул едкий, серый дым изо рта и ноздрей. Прокашлялся. Выглянул из-за угла – прапор не появлялся. Еще покурил. Затушил чинарик, сунул за отворот камуфлированной шапочки-пидорки. Вошел внутрь сортира, зачерпнул очередное ведро.
Поставил рядом с отверстием. Снова посмотрел на дверь заставы.
Пусто. Подождал, потом отнес ведро, вылил в овражек. Вернулся.
Прапора не было.
Почувствовав тревогу, Чащин медленно, осторожно стал приближаться к крыльцу. Он был почти уверен – сейчас в канцелярии решают что-то насчет него. Неужели на губу? Вполне могли сообщить в гарнизон о его залете – стукануть-то есть кому… Приоткрыл дверь, сунулся в дежурное помещение. Что-то строго бубнило радио…
– Гурыч, – позвал Чащин, – прапор где?
Дежурный поднял на него глаза, сморщился, словно отвлекли от важного дела какой-то мелочью, махнул рукой, зашептал:
– Иди в баню, послушай. Я транслятор включу.
– Что слушать? Где прапор?
– Иди, говорю!..
В предбаннике на подоконнике стояла колонка, из которой во время помывки звучала музыка, иногда прерывающаяся взвоем сирены – значит,
“система” сработала, надо одеваться и бежать за автоматом… Сейчас же вместо музыки и сирены – голос диктора. Не спуская глаз с крыльца заставы, стоя на пороге, Чащин слушал.
– …Воспользовавшись предоставленными свободами, попирая только что появившиеся ростки демократии, возникли экстремистские силы, взявшие курс на ликвидацию Советского Союза, развал государства и захват власти любой ценой…
За последние годы он много чего видел и слышал, с удовольствием наблюдал по телевизору за словесными баталиями на съездах народных депутатов, на партийной конференции, привык ухмыляться многочисленным заявлениям, но сейчас было что-то особенное, что-то из ряда вон.
– В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, – чеканил фразы диктор, – хаоса и анархии вводится чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР, а для управления страной образуется
Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР – ГКЧП СССР.
Стало жутко, тело стянул, съежил страх. Более острый, чем вчера, когда, вернувшись пьяноватым, отдохнувшим, умиротворенным, увидел на крыльце выстроившихся офицеров, их злобно-кровожадные рожи… Но вместе со страхом, каким-то обрывом внутри плеснулся и азарт любопытства.
– …Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки. Временно ограничить перечень выпускаемых центральных, московских и областных общественно-политических изданий следующими газетами: “Труд”, “Рабочая трибуна”, “Известия”, “Правда”, “Красная
Звезда”, “Советская Россия”…
С каждым словом на Чащина все сильнее наползало что-то уродливое, тупое, как газета “Советская Россия”, которую даже офицеры, не раскрывая, передавали личному составу для подтирания.
В двенадцать весь немногочисленный личный состав построили на плацу.
Гурыч, как в праздник, поднял на флагштоке вылинявший до розовости красный флаг. Погода была отличная – тепло, но не жарко (солнце за дымкой), сухо; вкусно пахло вызревшими травами, начавшими опадать и преть березовыми листьями… Многие из парней ничего о случившемся в
Москве не знали и сейчас пытались друг друга расспрашивать.
– У Горбачева инфаркт или что-то там… Янаев теперь президент.
– Какой Янаев?
– Ну, который вице-президент.
– Ой, твою мать!.. А министр обороны?
– При чем здесь министр обороны?! Мы лично президенту подчиняемся.
– Че?
– Дебил ты, Терентий. Второй год служишь…
Чащин стоял на своем месте, за широкоплечим Макаром, и улыбался. В отличие от других он был в курсе, успел оценить, решить, как будет себя вести.
Гурыч набрал в легкие воздуха и скомандовал:
– Застава! Станвись… р-равняйсь… смир-рна-а! – И ушел докладывать.
Через пару минут напряженной тишины и бездвижности появились начзаставы и остальные. Одеты были не в повседневные скучные камуфляжи, а в полевую форму офицеров Пограничных войск КГБ СССР.
Стянутые ремнями и портупеями, с наградными колодками на груди; над правой ягодицей у каждого – кобура. Лица торжественные, движения четкие. Почти по-строевому спустились на плац, расположились согласно порядку: начзаставы по центру, замполит справа, на шаг сзади, зампобою – слева. Прапор метрах в двух от зампобою, напротив хозотделения…
Оглядывая бойцов, начзаставы остановился на Сане Кукавко.
– Ефрейтор Кукавко, – произнес с гневным изумлением.