Натаниел Готорн пробубнил знакомое совершенство убивает, отец всегда пожимал плечами, когда слышал это от мамы, жалуясь на подгорелую корочку у пирога, забытого Дейдрой в печи. Оказалось, это слова из притчи — про красавицу, которой свели с лица родимое пятно. Она умерла, потому что перестала быть собой: не смогла узнать себя в зеркале и умерла от ужаса.
А мама умерла, потому что упала железная вывеска.
А папа умер, потому что Хедда его не любила. От этого многие умирают, вот я, например. А Младшая не умерла, хотя все ее давно похоронили. Она просто раскололась посередине — будто говорящий камень Алех Лавар, [45] пытавшийся вставить словечко в чужую похоронную речь.
Смерть — это одна из вещей, на которых построен мир, в ней нет ничего бесчеловечного. Чтобы это понять, не надо даже сидеть на чердаке.
Я сижу на чердаке, потому что здесь сухо, здесь тепло, в стенах ходит древесный жук, а соломенный коврик пахнет травой воронец, травой буган и травой погибелкой. Я сижу здесь, потому что в доме шумно, а в сарае сыро после долгого ливня — четыре дня лило и шумело так, что на веранде оторвался полотняный узкий лоскут маркизы и повис, будто крыло подстреленной ласточки.
Кстати, про смерть. Осталась еще одна мамина фраза, она так и не нашлась ни в одной книге, полагаю, мама сама ее выдумала.
Королева Анна скончалась.
***
Просьба твоя тяжела,
ибо кто, побежденный,
захочет битвы свои вспоминать?
Когда инспектор спустился завтракать, на нем была дешевая белая рубашка, только что распакованная, и это меня позабавило — свежую рубашку всегда видно по заломам на рукавах, к тому же у него в комнате, в мусорной корзине, я нашла мелкие гвоздики россыпью. Багажа у Элдербери не было, я нарочно поднялась посмотреть, когда все постояльцы собрались за столом, значит, он приехал ненадолго и не собирался ночевать, а рубашку купил в супермаркете на станции.
Вечером, вручая ему ключи, я приняла его за туриста, перебравшего в баре у Лейфа и отставшего от парома в Ирландию. Такое случается, однажды у нас ночевали студенты, опоздавшие на паром, так те познакомились с Финн Эвертон и остались еще на день, оба, смешные такие мальчишки-математики. Вот уж не думала, что Финн может вскружить кому-то голову. Полагаю, здесь не обошлось без любовного зелья, в Вишгарде его любая девчонка приготовит в полчаса.
Я приняла мистера Элдербери за скучающего путешественника, но утром, когда Прю забежала на чашку чая, я услышала странное: вчера он расспрашивал ее на автобусной станции — о пожаре и обо мне. Тут что-то не совпадает: поджог случился только вчера, а меня он вообще никогда не видел. Выходит, он вернулся назад с автобусной станции, чтобы на меня посмотреть? В такую-то погоду?
— Это полицейский, — сказала Прю твердо, — даже не сомневайся. Вчера он был изрядно навеселе, но копа я за версту чувствую, даже если у него на носу золотые очки, а зубная щетка торчит из кармана плаща. Вовремя ты перестала разговаривать, Аликс! Теперь ему придется помучиться, чтобы тебя допросить.
— Зачем меня допрашивать? — написала я на салфетке и поставила три вопросительных знака.
— Ну, как же, — Прю замялась, — тебе ведь ворота подожгли и вся южная стена сгорела. Хотя все и так знают, кто это сделал. И потом — разве ты не написала бумагу в полицию, когда отравили собак?
Я покачала головой. Зачем бы я стала писать бумагу, местный сержант даже пальцем не шевельнет, если речь идет о семье Сонли, вернее, о том, что от нее осталось.
Сержанта зовут Поль Дольфус, девятнадцать лет назад он водил меня в рощу за школой, и я стукнула его кулаком в нос, а четырнадцать лет назад, в бильярдной его отца, он назвал меня русским отродьем, после чего с ним случились разные неприятные вещи, к которым я не имею никакого отношения.
Лондонец приехал не за тем, чтобы искать убийцу Хугина и Мунина, я думаю, его интересует другая могила, не та, что под кустом пожелтевшего самшита, а та, что в зарослях ежевики.
Что ж, удачи вам, инспектор Элдербери. Жаль, что у вас такие дымчатые, крыжовенные глаза, мужчину с такими глазами жалко водить за нос, тем более что нос точь-в-точь как на портрете Догмация — сильный и заносчивый.
Однако ничего не поделаешь, мне придется запутать вас, как несуществующие питанцы из Спарты запутали Геродота, а если не выйдет, я сделаю так, что вы сами запутаетесь, и вам станут мерещиться взаправдашние кости летучих змей на берегу Красного моря.
***
И се слышаша глас хлопота в пещере от множества бесов.
Синеглазый Сондерс Брана приходил за ключами, я оставила его в «Кленах» за хозяина — на те несколько дней, что мне придется провести в Хенли.
Я подала ему шенди на кухне, взяла нож и хотела было уйти в сад за осокой, но тут он поймал меня за руку и заставил сесть за стол.
— Куда ты едешь, Аликс? — спросил он, хмуро вглядываясь в мое лицо, как будто пытаясь обнаружить белый кружок вокруг носа: так в китайской опере обозначают персонажа, таящего коварные планы. — Только не подсовывай мне своих листочков, что это за новые фокусы?
— Разумеется, в Кардифф, — написала я красным карандашом мысленно заливая лицо алым гримом, это обозначает чистую правду, так, между прочим, раскрашен оперный Гуань Юй. — За свадебным платьем, ты же знаешь. А говорить я в этом городе больше ни с кем не стану, так что терпи.
— Я хотел поговорить с тобой об Эдне Александрине, — сказал Сондерс, — я имею право знать, как вы двое договорились о владении пансионом. Невеста ты мне или нет?
— С тех пор, как она сбежала, я о ней ничего не знаю, — ответила я, — но если вернется, то будет владеть половиной имущества. Вместе с Хеддой, если Хедда вообще еще жива.
— Ну да — если эта жива, если та жива, — поморщился Сондерс, — тебе волю дай, ты всех похоронишь. За платьем я поеду с тобой: остановимся в «Ангеле» на пару дней, будет повод увидеть тебя в ночной рубашке.
— У меня нет ночной рубашки, я сплю в папиной пижаме, — написала я, мысленно рисуя на щеках синие узоры строптивости.
— Ну да, и к тому же, ты едешь не в Кардифф, — Сондерс допил шенди и глухо стукнул стаканом по столу. — Послушай, Аликс. Я многое готов стерпеть, но всему есть предел. Ты закрываешь дверь своей спальни перед моим носом, ладно, Сондерс терпит, половина города считает тебя убийцей, а меня альфонсом — ладно, Сондерс терпит. Но эта твоя немота меня просто бесит. Открой свой чертов рот!
Когда мой жених нервничает и перестает следить за собой, его голос становится скрипучим, как у всех, кто плохо слышит. Я смотрела на него, пытаясь представить, как это произошло с его барабанными перепонками — там, на глубине, заполненной медленными рыбами и мутным планктоном, на песчаном дне Гаафару, заросшем пурпурными и ржавыми горгониями. Холод заполнил ему голову, все закружилось перед глазами — хрусть, и мембрана треснула?
Сондерс выждал немного, потом взял меня за руку и ткнулся носом в запястье.
— Лимонная мята, — сказал он, раздувая ноздри и вытягивая верхнюю губу, будто лошадь, почуявшая запах дыма, — хотел бы я понюхать тебя всю целиком. Твоя сестра пахла кислым молоком, как сейчас помню, — он медленно улыбнулся, обнажив ровные яблочные зубы, и я вдруг поняла, что не могу на него злиться.
Да чего там — даже руку не могу отнять, будто приклеилась.
Правильно говорила Дейдра: бойся бычьих рогов, конских копыт и улыбки англичанина.
***
Смертная бледность ее претворилась в бескровные листья,
Все же и алость при ней. [46]
Третье июля.
Автобус на Хенли был переполнен, я достала из сумки журнал, купленный на вокзале в Рединге, и стала обмахиваться, слева от меня ворочался лысоватый мужчина в пропотевшей рубашке, справа — девочка в наушниках. В автобусе пахло пролитым пивом и ванильными духами, неотвязными, как ангина, у меня даже в горле запершило. Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна, сказал бы отец Дейвант из воскресной школы. А может, и не сказал бы.
У отца Дейванта была привычка вырезать человечков из бархатной бумаги, за час он вырезал четверых и в конце занятий раздавал тем, кто отличился, задавая правильные вопросы. У меня в ящике письменного стола лежит один такой человечек — заработай я еще одного, могла бы показывать сцену из китайского Троецарствия в театре теней.
Мне больше нравился отец Лука из кардиффской церкви, у него была пегая борода и золотые узоры на одеждах — мама толком не знала, кто она, и ходила то к протестантам, то к католикам, то к отцу Луке. В церкви мы оставляли под иконами тонкие, гнущиеся в руке свечки, зажигая их от чужих свечек, воск был сливочно-желтым, но на пальцах оставались черные пятна.
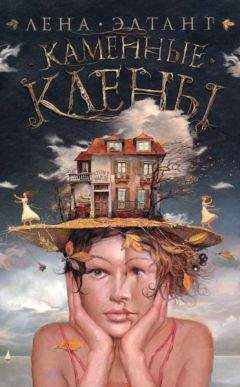



![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
