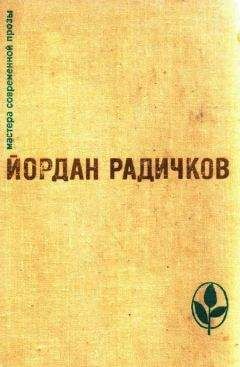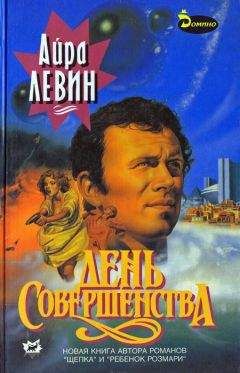Когда табор снялся с места и двинулся в горы, не решив еще, куда свернуть потом — налево или направо, он нагнал на дороге молодого парня с тонкими цыганскими усиками, черными цыганскими глазами и еще более цыганским чубом. Парень вел в поводу кобылу с перевязанной ногой. Когда цыгане поравнялись с ним, парень присоединился к табору, громко расхваливал красоту цыганок и, переходя от телеги к телеге, угощая всех табачком, со всеми перезнакомился и объяснил, что тоже держит путь за перевал и будет до невозможности рад, если его возьмут в попутчики, а под конец купят у него кобылу, потому что, говорил чубатый красавец, он не думает возвращаться в эти края, а продаст лошадь и будет искать работу где-нибудь в городе. Цыгане сказали, что, помимо работы и счастливой доли, надо ему еще сыскать себе цыганку. В первой же корчме — она относилась к селу Разбойна — чубатый парень раскошелился, чтоб угостить компанию и сговориться насчет цены за кобылу. Цыгане долго смеялись и сказали ему, что больно уж много он запрашивает за свою кобылу, она ломаного гроша не стоит, а колено он ей перевязал зря, потому не в колене у нее болячка, а в копыте. Парень струхнул, уж не заподозрили ли чего цыгане, признался, что ничего в лошадях не смыслит, кобылу в лечебнице осматривал совсем молодой ветеринар, да, видать, и тот смыслит в лошадях не больше, чем он, если вместо копыта перевязал колено. Под конец они уже почти ударили по рукам, но так как впереди было еще много времени, то продолжали вести торг по дороге через горы и, чтобы красавец парень не тащился пешком, посадили его на одну из телег, а хромую кобылу привязали к телеге, замыкавшей караван.
На третий или четвертый день Иван Мравов увидал хромую кобылу возле разбойненской корчмы. А в корчме сидел и пил Матей, нечесаный, заспанный, опухший и какой-то кислый. Он встретил Ивана печальной улыбкой, долго мотал головой и застывшим взглядом смотрел в одну точку. Он сказал Ивану, что свою битву при Клокотнице проиграл и что невидимый фронт так и остался невидимым. По его словам, табор на второй день въехал на территорию Мемлекетова, там им встретились два каракачанина — они везли вниз, на равнину, кадки с творогом; цыгане о чем-то потолковали с каракачанами и, посоветовавшись между собой, повернули назад и встали табором в безлюдной лощине, неподалеку от водяных лесопилен. На другое утро они двинулись дальше, но каким-то кружным путем, поэтому вечер застал их вдали от жилья, и они опять заночевали на природе. Ничего подозрительного в таборе он не заметил, подозрительным скорее выглядел он сам, потому что наметанный цыганский глаз сразу распознал, что повязка у кобылы липовая, Проснувшись на третье утро, на рассвете, продолжал рассказывать Матей, он обнаружил, что на скошенном лужке, у речки, никого, кроме него, нету, голову сильно ломило, особенно затылок. Вокруг были давно остывшие кострища, а за кострищами на берегу стояла привязанная хромая кобыла. Цыган и след простыл, если не считать следов их телег на росистой траве. Матей сразу смекнул, что его обвели вокруг пальца, надо думать, цыгане с вечера опоили его, дождались, пока он захрапит, загасили костры, и табор снялся с места, чтобы тоже стать невидимым. Пригрозив, что когда-нибудь они дорого ему за это заплатят, Матей отвязал кобылу и повел ее назад. Вместе с кобылой он завернул к Мемлекетову, тот долго насмехался над ним и сказал, что глупей, чем их уловка, ничего не придумаешь, потому что хромая кобыла — это уж глупее глупого. Будь у Матея резвая лошадь, здоровая, он мог бы вскочить верхом и по колеям от цыганских телег настичь табор еще до того, как тот перевалит через горы. «Можно только сожалеть!» — сказал Мемлекетов Матею.
— Так в точности и сказал? — спросил Иван Мравов.
— Ну да, можно только сожалеть, говорит! — повторил Матей.
Он велел корчмарю принести вина, корчмарь неслышными кошачьими шажками вылетел в дверь и теми же кошачьими шажками влетел обратно, потом Матей велел ему задать кобыле корму, корчмарь снова ринулся кошачьими шажками отнести овса привязанной перед корчмой животине. Иван Мравов расспросил друга, что поделывает Мемлекетов и что слышно нового на его участке. Матей сказал, что Мемлекетов живет — не тужит, недавно туда прислали из Софии на жительство трех бабенок легкого поведения, Мемлекетову под надзор, такие, скажу я тебе, бабенки! Мы тут с нашим бабьем словно по карточкам живем, а у тех бабенок все в избытке, даже чересчур, а какое белье! Матею дважды довелось увидать их белье во дворе, где их поставили на квартиру, они будто специально целыми днями стирают свое белье и вешают сушить всему селу на обозрение. Особо ярые любители женского пола все кружат возле того двора, а оттуда закатываются в корчму пить, Мемлекетов говорит, что с той поры, как бабенки в селе, эти, особо ярые, пропили в корчме две лошади вместе с телегами и село в любой момент может заняться с четырех концов.
— Вот бы к нам прислали на поселение что-нибудь в таком роде! — со вздохом проговорил Матей. — Поглядел бы ты только, какое у этих бабенок все белое да обильное! Можно только сожалеть!
Иван Мравов слышал, как корчмарь что-то говорит кобыле, вешая ей на шею торбу с овсом. Он смотрел на усталое, опухшее лицо друга с некоторым недоверием. Собственно, вызывал недоверие не вид Матея, а слова Мемлекетова по поводу истории с табором. Раз Мемлекетов говорил, что можно только сожалеть, это означало, что дело нечисто и надо его проверить. Он усмехнулся, отгоняя засевшую в голове нелепую мысль, то есть что дело нечисто и рассказ Матея надо проверить. На всякий случай он, пока не вернулся корчмарь, шутливым тоном спросил:
— Матей, а может, ты напал на след, а цыгане про то пронюхали и щедро откупились? Им ничего не стоит подкупить нашего сотрудника-добровольца. Они богатые, у них есть золотишко, а мы люди бедные!
— Они мне за все заплатят! — Матей с угрозой взмахнул рукой. — Они когда-нибудь мне дорого заплатят!
Вошел корчмарь, сказал, что дал кобыле овса.
— Действительно, можно только сожалеть! — произнес Иван, а про себя подумал, что надо будет когда-нибудь все это проверить. Нелепо, конечно, сомневаться в Матее, но что делать — служба требует все проверять. Хотя, размышлял молодой сержант, из-за этого мы становимся подозрительными даже к самым верным и близким людям.
Надо просто-напросто быть начеку, но сохранять спокойствие, убеждал себя сержант на обратном пути. Потом поделился этой мыслью с Матеем:
— Надо быть начеку, но сохранять спокойствие, — сказал он. — Нечего нам раскисать, как бабам, небось ничего страшного не случилось.
С этими словами он сделал Матею подножку, Матей кувырнулся в высокую траву у обочины, но быстро вскочил на ноги и кинулся на сержанта так стремительно, что тот упал навзничь, тоже перекувырнулся в высокой траве, два молодых тела сцепились, стали кататься в траве, основательно помяли ее, внизу оказывался то сержант, то Матей, оба тяжело дышали и, когда высокая трава вся полегла, они сели, потные и усталые, друг против дружки и уставились друг другу в глаза.
А потом оба разом захохотали!
Они походили на мальчишек, которые вздумали наскоро помериться силами. А ведь оба давно уже вылезли из пеленок, давно минуло время, когда они вот так мерялись силой и возились на здешних лугах, оба с годами возмужали, мягкий пушок на щеках превратился в жесткую щетину, но, несмотря на щетину, каждый из них порой чувствовал, как что-то мальчишеское, озорное поднимается в груди… Тут я должен отметить, что, когда они, потные, улыбающиеся, сидели друг против дружки, отдувались и смотрели друг другу в глаза, ни у того, ни у другого не было в глазах и тени подозрения.
Кобыла стояла на дороге, не в силах понять, из-за чего подрались эти парни, зачем помяли траву, которую так хорошо было бы пощипать, и почему теперь они сидят друг против друга и хохочут.
В тот день, лежа навзничь на лугу, глядя в небо, Матей попросил приятеля раздобыть ему пистолет. Иван обещал и позже действительно дал Матею пистолет. Но это произойдет позже, а сейчас они пошли вместе возвращать кобылу председателю. Дядя Дачо встретил их в сандалиях на босу ногу. Этот фасон сандалий был изобретен обувными фабриками после ликвидации монархии и продержался вплоть до отмены карточной системы, то есть до второй половины двадцатого столетия. На какое-то время он исчез, а затем появился снова, обувные фабрики опять взяли его на вооружение, и даже сейчас, читатель, в 1974 году, можно увидеть его в сельской местности. Столько произошло в жизни перемен, столько сражений без шума проиграно и без шума выиграно, так переменилась стратегия и тактика тихого фронта, а вот неприглядные эти сандалии прошли через исторические события, не претерпев никаких изменений, и поскольку они успели набрать начальную скорость, то возможно, что, надетые на чьи-то босые ноги, они вступят и в двадцать первый век.