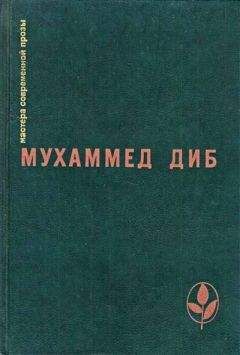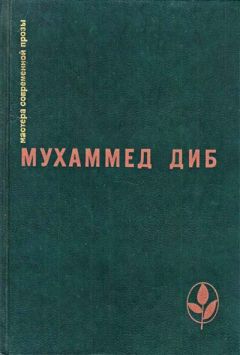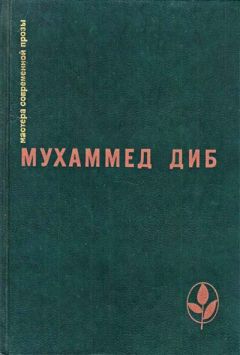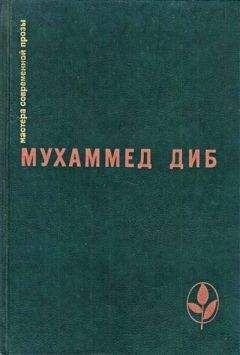Со лба у меня стекает пот — на глаза, на все лицо. Словно кровь течет не под кожей, а по коже. Я не надеюсь, что станет легче. Какое уж там легче. Приоткрываю один глаз, прикрываю другой. Моргаю. Пытаюсь сделать наоборот: закрытый глаз открыть, открытый — закрыть. Башир глупый. Три дня топал, нес кур на рынок. А потом еще три дня на обратную дорогу. Выгадал десять дуро. На что они ему сдались, эти деньги? Из огненных зрачков, каждый из которых, прежде чем расплавиться, проникает в меня, подобно жалу, текут капли. Кровь в моих жилах почти свернулась, едва сочится. Если бы она могла совсем высохнуть, превратиться в пыль… Жалкая мечта для камня — желать, чтобы его оросила кровь. Пусть смута этого мира настигнет меня. Мои глаза уже не знают, что перед ними.
День вращает свой жернов. Я тоже вращающийся жернов. Эти горы, земля, солнце словно в бреду. Во множестве изрыгают они обезумевших птиц, ветви огня. Птичьи крики обрушиваются на поле градом мелких угольков. Один мой глаз открыт. В небесной глубине проплывает скопление черных точек. Пот — моя кровь — маской затвердевает на лице. Сколько времени она будет сохнуть? Сколько времени принимать форму? Все живущее облачено в форму. Если форма изменяется, исчезает то, чему она придает жизнь. Форма может обойтись без жизни, но никак не жизнь — без формы. На ней печать вечности. Длиться, никогда не прекращаясь. Обрести нетленную форму. Согласиться со своей гибелью. Я гляжу прямо перед собой. У горизонта та же гряда гор, стоящих на страже, но что они охраняют? О господи, что? Я лежу, вцепившись в землю. Не двигаюсь. Пускаю корни. На коже выступает кровавый пот. Скоро уже. Скоро мое тело, из которого вытечет вся кровь, обратится в сланцевые пластинки, отвердевшую породу, гальку, туф. И пусть ползет по мне кто хочет. Ни одно насекомое не сможет укусить камень. И пусть мои глаза облепят мухи, пусть птицы прилетят их выклевать. Это уже будут не глаза, а каменные наросты.
Я могу пока пошевелить ногой, рукой, повернуть голову. Но память уже окаменела. Что бог? Я не чувствую его взгляда, прикосновения пальцев, не вижу лица. Ничего не говорящее слово, что-то вроде шифра. Может, этот палящий зной, сжигающий поля, и есть бог?
В самом центре пламени я различаю танцующую огненную тень. Она несется вскачь. Потом вновь принимается кружиться в танце. Наступает на меня. Я думаю: „Как только она доберется до меня, я превращусь в безжизненный труп на голой земле, терзаемой солнцем“. Я жду. Считаю прыжки, которые то отдаляют тень, то приближают ее ко мне. Она словно балансирует между невоспринимаемыми мирами. Небо сопровождает ее в полете. Рядом с ней оно еще больше бледнеет. Вот она дотрагивается до меня. Моя мысль теперь подобна окаменелости внутри камня.
Тень останавливается, кладет что-то у моих ног. Я размыкаю веки. Смотрю.
Горсть черных оливок в миске. А сверху кусок ячменной лепешки.
В глубине глаз моего самого младшего сына светится улыбка.
— Позавтракай, папа. Позавтракай.
Я наблюдаю за ним. Он все улыбается.
— Позавтракай.
Ты улыбаешься, дитя, не замечая бездны, которая тебе угрожает. Не поступай необдуманно. Надо узнать… понять… Хотя какая разница.
Стой, где стоишь, и пусть твои ясные глаза улыбаются, их речь не столь невозможна, как речь, составленная из слов. Умершее боится не смерти, оно боится жизни.
Он понял. Я благодарно кивнул головой. Его черная тень исчезает так же, как появилась. Мы обернулись посмотреть на мертвецов, лежащих на склонах гор, куда их бросили. Местами у них уже проглядывали кости. Птицы-людоеды кое-где уже вырвали куски мяса. Мы так и оставили там трупы. Я обращаюсь к младшему сыну в его далеко, где все окружено голубым теплым свечением: „Тебя направила ко мне твоя мать, смерть, это она прислала лепешку, оливки. Она сказала тебе: иди. И ты пришел, прибежал, любовь ко мне подгоняла тебя. Ты долго улыбался, потом пожелал и мне почивать в мире. Земля будет мне пухом. Разбушевавшись, демоны воздуха могут погнаться за мной. Но вот я добираюсь до жилищ пустоты“».
Лабан чувствует, что его поднимают на плечи, и вот он вместе с друзьями и родственниками отправляется в путь. В мавзолее Сиди Хабака его опускают, как и полагается, прямо в гроб святого. Кругом свечи, как при ночном бодрствовании у тела покойного. Члены семьи и все остальные ждут, что произойдет дальше.
А где же его новая супруга? О ней совсем забыли, оставили дома.
Затем к гробу, глядя строго перед собой, приближается человек, появление которого здесь никому из присутствующих не кажется неуместным. Он наклоняется и хватает Лабана за плечо. Лабан ошеломлен, он вскакивает, как был, в брачной одежде, и узнает в незнакомце преследовавшую его тень.
«Я лежу под палящим солнцем. Я словно мертвое дерево, которое обжигает солнце. Я бодрствую, как бодрствует камень. Мир вокруг меня двоится. Ничто уже не погасит пожар. Память умолкла. Куда ни глянь, все переливается, колеблется. Выжженный, безмолвный, бесплодный, суровый мир, где все силы иссякли.
Я тут. Я не сплю. И не вижу снов. Но мне смешно, мне смешно, потому что я знал, что случится дальше. Мое тело было всего лишь мираж, химера, говорившая „я“. Теперь оболочка порвана, и я свободен. Я устремляюсь к солнцу, к мерцающей бледной пустыне. Я исчезаю среди прижавшихся к земле серых пиков, валунов, погруженных в задумчивость на равнине, безропотно и бесстрастно принимающей тяжелый свет с небес. И дальше, дальше. Я — тень от солнца, воплотившаяся в смертный страх. Не знающий преград. Дробящийся на тысячи человеческих существ. Целый мир. Все люди один за другим будут принесены ему в жертву. Куда вы только ни посмотрите — вперед, назад, — везде вы встретитесь взглядом со мной».
— Однако все, что нас окружает, устроено в расчете на понимание.
На удивление сдержанно приняли непритязательное изложение Жаном-Мари Эмаром своих взглядов. Он не мог этого не заметить, А ведь Жан-Мари рассчитывал, что, доверившись им, он заслужит одобрение. И теперь Жан-Мари был немало удивлен: Камаль глядел насмешливо, вызывающе, это было ясно как божий день, а Хаким Маджар, казалось, пребывал в замешательстве, почти и не скрывая досады.
— Что вы сказали? — переспросил Хаким.
— Все, что нас окружает, устроено в расчете на понимание. Жизнь существует, лишь поскольку обладает смыслом, — повторил Жан-Мари.
Тут до него дошло, что друзья могут истолковать его слова превратно. Жану-Мари стало бесконечно жаль, что он вообще затеял этот разговор. Тем более что он решил, будто Марта может обидеться и на его тон, обидеться и за мужа, и за своих теперешних соотечественников, каковыми стали для нее алжирцы. У него было достаточно времени для сожалений, так как Маджар решился ответить лишь после долгого размышления:
— Мы к этому еще, увы, не пришли. — Он пододвинулся вперед на своем стуле, согнув колени. — Начать с того, что у нас голод убивает мысль в зародыше. Мысль в любой форме. Жизнь косит наших Пастеров, Прустов, Дебюсси до того, как они становятся Пастерами, Прустами, Дебюсси, до того, как они успевают созреть. И потом, появись у нас люди башковитые, способные оценить наше положение, и снедай их тревога, они тревожились бы сейчас о том, как бы занять наилучшее место и побыстрее разбогатеть. Я не говорю о тех, кому тревога скручивает внутренности и сокрушает всякое стремление к пониманию. Эти не в счет. Когда-нибудь, как знать, и мы испытаем незаинтересованное, чисто интеллектуальное волнение при обращении к вопросам метафизическим. Но когда это еще случится? Я сам не хочу отыскивать объяснение очень многим вещам. Понимать! Каким бы простым и очевидным ни представлялось вам это требование, оно свидетельствует о том расстоянии, которое нас разделяет.
Камалю эта речь подспудно напоминала другую, он не сразу решил, какую именно, пока эхом не отозвался в его мозгу голос доктора Бершига.
— Все так, — признал Жан-Мари. — Тем более я считаю, что в современном мире, не в пример прошлым годам, мы можем спастись вместе, вместе сделать скачок вперед. В наше время никому не позволено обособляться от других под тем предлогом, что они развиваются слишком медленно или слишком быстро.
— Мне кажется, вы увлеклись.
— А желание властвовать! — бросил Камаль. — С ним-то как?
Сбросив с себя ироническую маску, он в забавной растерянности таращил глаза, смахивая при этом на ночную птицу.
В Алжире люди навешают друг друга, не дожидаясь особого приглашения. Хозяевам, если их волнует их доброе имя, приходится идти на любые ухищрения, лишь бы ублажить незваных гостей. Жан-Мари, однако, заколебался, когда, пообедав с ним, Камаль предложил пойти проведать Хакима Маджара. Жан-Мари в таких случаях не мог — да, видно, и никогда не сможет — подавить в себе чувство, что он как бы незаконно вторгается в чужой дом. Ничего тут не поделать. Кроме того, утром он разговаривал с Мартой и теперь ждал, согласится ли в принципе ее супруг побеседовать с ним. Не прослышал ли об этом Камаль и не хотел ли он из коварства привести его «до того», чтобы самому присутствовать при разговоре? Предложение Камаля выглядело подозрительно; сомнения охватили Жана-Мари в тот же вечер и, по правде сказать, смутили его. «Кто поручится, что это не так?» И все-таки сомнения казались малообоснованными. Как бы то ни было, именно при Камале Жан-Мари меньше всего хотел вести с Хакимом Маджаром разговор, на который так надеялся. Теперь Жан-Мари знал, сколь безмерен скептицизм Камаля.