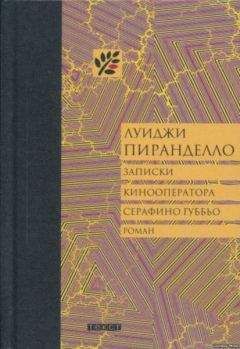Неправда, она не забыла. Об этом говорит ее взгляд. После того как Карло Ферро доложил ей, что я был другом Джорджо Мирелли, она смотрит на меня с презрением, с очевидной враждебностью, словно хочет унизить. Эту неприязнь я читаю в глазах Несторофф. И рад этому, ведь теперь я уверен, что все то, что я воображал и придумывал, наблюдая за ней, соответствует истине. Точно она сама в порыве откровения выплеснула на меня свои тайные чувства, настежь распахнула передо мной свою больную, растоптанную душу.
Два последних дня в моем присутствии она всячески демонстрирует свою привязанность к Карло Ферро: жмется к нему, виснет у него на шее и при этом дает понять окружающим, что она, как и все вокруг, прекрасно видит тупость, грубость манер и всю животную сущность этого человека. Она это понимает. Другие, воспитанные интеллигенты, презирают и избегают его, верно? Что ж, их дело, а вот она ценит его и привязана к нему именно в силу этих свойств, он не такой, как они, хлюпкий интеллигент.
Лучшего доказательства и не сыщешь. Но, кроме надменного презрения, что-то должно же трепетать в ее душе! Безусловно, она над чем-то раздумывает. В этом нет сомнений. Карло Ферро — ее прибежище, колючий, горький терновник, к которому, скрепя сердце и превозмогая себя, она льнет, дабы залечить незаживающую рану. Сейчас она еще сильнее прижимается к нему: с появлением Нути нависла угроза возвращения ее старой беды. Вовсе не потому, полагаю, что Альдо Нути имеет над ней большую власть. Тогда она с ходу подобрала его, как тряпицу, разорвала на части и вышвырнула. Но сейчас его появление означает одно: оторвать ее от Карло Ферро и воздвигнуть перед ней призрак Джорджо Мирелли. В этом, вероятно, она и усматривает свою беду. Вот оно, лихорадочное беспокойство ее странной души, подумать о которой не удосужился ни один из мужчин, с которыми она сходилась.
От этой беды она хочет избавиться любой ценой. Она знает, что в объятиях Карло Ферро можно невзначай и задохнуться. Но ее это устраивает.
Какая тебе радость оттого, что Нути не приедет, хочется мне крикнуть ей, не напомнит о твоей беде, коль скоро беда эта жива в тебе, придавлена, но не побеждена? Загляни в себя, в свою душу, не хочешь? Ты мчишься, как безумная! Чтобы убежать от себя, укрываешься в объятиях мужчины, у которого — ты это знаешь прекрасно — нет души, он может сжать тебя до смерти, но, случись что сегодня или завтра, больная душа вновь окунет тебя в прежние муки! Ах, лучше смерть, чем опять эти муки?! Муки, в которых утонет душа, страдая не весть почему и зачем?
Сегодня утром, когда я вертел ручку, у меня внезапно возникло подозрение, что она (она в это время, как безумная, трепыхалась в силках своей роли) готова покончить с собой. Вот именно, покончить с собой у меня на глазах. Не знаю, как мне удалось сохранить самообладание и оставаться бесстрастным. Я сказал себе: «Ты — рука, поэтому снимай! Она на тебя смотрит, смотрит пристально, смотрит только на тебя, словно хочет что-то сказать. Но ты ничего не знаешь, ничего не обязан понимать, верти лучше ручку!»
Начались съемки фильма о тигрице. Фильм длинный, и в нем задействованы все четыре труппы. Нагромождение безвкусных, глупейших сцен. Несторофф не будет в нем участвовать, ей не удалось добиться главной роли. Сегодня утром по специальному распоряжению Бертини она снялась в пробной сцене, где показан местный колорит, — ей поручили крохотную, второстепенную, но отнюдь не простую роль молодой индуски, дикой и фанатичной, которая закалывает себя в финале танца с кинжалами.
Отметив на земляной площадке границы кадра, Бертини расставил полукругом человек двадцать массовки, одетых и загримированных под индийцев. В центр вышла Несторофф, почти нагая, в одной набедренной повязке в желтую, зеленую, красную и голубую полоску. Но обворожительная нагота ее хрупкого и вместе с тем налитого тела была прикрыта презрительным безразличием, с которым она появилась перед всеми этими мужчинами, с высоко поднятой головой и опущенными руками, в которых она сжимала два наточенных кинжала.
Бертини коротко пояснил, что надо делать:
— Она танцует, это что-то вроде ритуала. Все благоговейно, с религиозным трепетом следят за ней. Внезапно, по моей команде, она в разгаре танца пронзает себе грудь кинжалами и падает замертво. Все сбегаются, наклоняются над ней, выражают ужас и удивление. Только, смотрите, следите за границами кадра. Вам там все ясно? Сперва все серьезно смотрим на нее, потом, как только она упадет, все к ней подбегаем. Но главное — границы кадра, не выходить за границы кадра.
Варя Несторофф стояла перед толпой, зажав в руках кинжалы, и вдруг устремила на меня столь пристальный взгляд, что у меня, стоявшего позади черного механического паука, который притаился в засаде на трехногом штативе, потемнело в глазах. К счастью, я расслышал команду Бертини:
— Мотор!
И, как заводной, принялся вертеть ручку.
Мучительно извиваясь в каком-то странном, пугающем танце с двумя коварно поблескивающими кинжалами, она ни на миг не отрывала от меня взгляда, смотрела мне прямо в глаза, и я следил за ее движениями, как околдованный. Я видел, как на ее высоко вздымающейся груди струйки пота прочерчивали полоски в слое желтого грима, которым было покрыто все ее тело. Ничуть не заботясь о своей наготе, она двигалась словно в забытьи и, не отводя от меня взгляда, сдавленным голосом повторяла:
— Bien comme ça? bien comme ça?[15]
Будто ждала от меня ответа. Глаза — безумные. Наверное, в моем взгляде, помимо удивления, она прочитала панический страх: что будет, когда раздастся команда Бертини? Когда же команда последовала, она, приставив к груди оба кинжала, рухнула на землю; я на мгновенье подумал — она заколола себя, и готов был ринуться к ней в числе других, бросив крутить ручку камеры и позабыв обо всем на свете, в то время как Бертини орал массовке:
— Чего уставились? Бросайтесь к ней! Дайте же мне второй план! Вот так, годится! Всё, стоп, снято!
Я был выжат, как лимон; рука, вдруг налившись свинцом, механически вертела ручку.
Я видел, как раздраженный Карло Ферро в развевающемся фиолетовом плаще с гневом и нежностью подбегает к ней, помогает подняться и, укутав полою плаща, почти на руках уносит в артистическую.
Я заглянул в машинку и услышал, как голос, выходящий из моей гортани, докладывает Бертини:
— Двадцать два метра.
Сегодня, сидя в трактире, в беседке, увитой виноградной лозой, мы ждали прибытия «барышни из хорошей семьи», о которой замолвил словечко Бертини. Ей предстояло сыграть крошечную роль в фильме, приостановленном несколько месяцев назад: теперь его хотят завершить.
Прошло уже больше часа, с тех пор как мы послали к этой барышне мальчика на велосипеде, но до сих пор нет ни барышни, ни мальчика.
Полак сел за мой столик, за соседним сидели Карло Ферро и Несторофф. Все вчетвером, а также вновь прибывшая, мы должны были выехать на съемки в Боско-Сакро.
Послеобеденная жара, назойливые мухи, натянутое молчание между нами, вынужденными соединиться вопреки объявленной, но еще не вспыхнувшей войне против Полака, да и против меня тоже, делали ожидание невыносимым.
Мадам Несторофф нарочно не поворачивала головы в нашу сторону, но, без сомнения, чувствовала, что я смотрю на нее — со стороны могло показаться, что рассеянно, — и уже несколько раз дала понять, что ее это раздражает. Карло Ферро заметил это и, глядя на нее, нахмурил брови. Тогда она прикинулась, будто это не я докучаю ей своим созерцанием, а солнце, которое било в глаза сквозь побеги лозы и падало ей на лицо. И верно, чудесной на этом лице была игра сиреневой тени, прочерченной золотыми полосками солнечных лучей, которые высвечивали то кончик носа, то верхнюю губу, то мочку уха и кусочек шеи.
Порой то, что я вижу, действует на меня настолько сильно, что ясность и пронзительная четкость восприятия даже пугают меня: увиденное вдруг становится частью моего сознания, и боязно подумать, что этот образ — человек или вещь — может оказаться совсем не тем, чем мне хотелось бы. Враждебность Несторофф в минуту столь интенсивной ясности восприятия была мне невыносима. Как она не понимает, что я ей не враг?
Некоторое время она что-то высматривала сквозь решетку беседки, затем внезапно поднялась, и мы увидели, что она выходит, направляясь к коляске, уже битый час стоявшей под палящим солнцем перед входом в «Космограф». Я тоже приметил эту коляску, но из-за густой листвы не мог разглядеть, сидит ли в ней кто-нибудь. Коляска ждала уже так давно, что трудно было предположить, что в ней кто-то есть. Полак поднялся, я встал вслед за ним; мы стали всматриваться.
В коляске сидела девушка в голубеньком платьице из тончайшей швейцарской ткани и в соломенной шляпе, украшенной черными бархатными лентами. Держа на коленях старую лохматую черно-белую собачонку, она жалобно и с испугом смотрела на счетчик, который щелкал и, должно быть, уже нащелкал порядочно. Мадам Несторофф грациозно подошла к ней и с очаровательной улыбкой предложила выйти, чтобы не сидеть под палящим солнцем. Возможно, удобнее подождать в тени беседки?