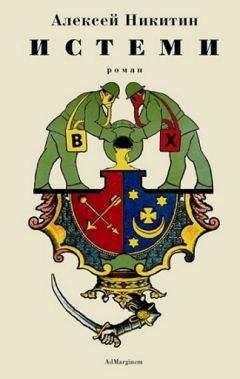Ваха долго сидел на диване с лицом бледным до серой синевы, молчал, раскачивался, временами опуская голову ниже колен. Потом посмотрел на Веру и пожал плечами: «Я же сказал ей, что не смогу. Не выношу вида крови». В этот момент Вера вдруг увидела взгляд сестры. Выражение мрачного удовлетворения мгновенно вспыхнуло в нем и тут же исчезло.
Петушиная история кончилась как обычно — руганью с соседями, милицией, проверкой документов. Участковый медленным челноком перемещался между ванной и балконом, разглядывал пятна крови и изумленно шевелил бровями: «Кого вы тут еще зарезали? Лучше расскажите добровольно, мы все равно узнаем». Вместо обычных пятидесяти гривен пришлось заплатить семьдесят. Больше не было.
Когда Вера, защитив диссертацию, нашла в Германии пост-док и уехала на год в Европу, Лариса с Вахой перебрались в Киев к отцу. Тут уже стало полегче, но найти для Вахи работу все равно не удавалось. Что делать, не сидеть же ему всю жизнь дома, мужик-то здоровый, даром что без ноги? Потом откуда-то возник приятель Вахи. Он «Газелями» возил орехи из Крыма на продажу в Киев, в Минск и в Литву. Нормальный бизнес, никакого криминала, да и в деле только свои — одни чечены. И живут все вместе. Совсем как раньше.
— И что же теперь? — спросил я Веру так, словно это не я прощался утром с Ларисой и Вахой возле их нового дома в поселке Восточный.
— Посмотрим, — пожала она плечами. — Может, приживутся, а может… Кто знает. Плохо без родины, — неожиданно заключила Вера. За последние два года у нее тоже накопился свой опыт. Конечно, не такой, совсем не такой, как у Ларисы и Вахи. Ну, так опыт, он у каждого свой.
— Скоро Ялта, — после долгой паузы я кивнул на дорожный указатель. — Ночуем в городе?
— Ночуем. Только гостиницу выбирайте сами. Я в них не разбираюсь. Одну «Ореанду» и помню…
— О! — тут же пришла мне мысль. — Знаю. Прошлой осенью наши боссы проводили в «Леванте» конференцию менеджеров восточноевропейских отделений.
— Где это?
— По набережной, сразу за «Ореандой». Отличное место. Деньги русские, сервис украинский.
— Представляю себе.
— Напрасно иронизируете. Крепкий бизнес-класс. С осени по весну там просто замечательно.
— А летом?
— Летом бы я там жить не стал — окна выходят на море, на юго-восток, а я не люблю, когда солнце бьет в окно, особенно утром. Спишь спокойно, и вдруг у тебя в голове словно лампу зажигают. Даже если от солнца можно закрыться плотными шторами и в номере есть кондиционер, все равно не люблю. На юге окна должны выходить в тенистый сад…
— С пальмами, фонтанами и павлинами.
— Да. С пальмами и фонтанами. А павлинам — с вечера глаза завязывать или колпачки надевать, чтоб по утрам не орали.
Мы проскочили город по Южнобережному шоссе, а потом, петляя между колоннадами санаториев и пансионатов, спустились почти к самому морю. Чуть не доезжая набережной, свернули к «Леванту». Приехали.
На востоке темнело и наливалось густой синевой небо, на море и берег ложились первые тени мартовских сумерек. Море чуть слышно шлепало слабой волной о гальку. Мы сняли два небольших номера на первом этаже, оставили вещи и тут же ушли в город.
К концу своего первого веселого послеармейского года я вдруг заметил, что в Киеве есть районы, в которых я отлично ориентируюсь ночью, но никогда не бывал и вряд ли смогу узнать их днем. То же и с Ялтой. Для меня она всегда была ночным городом, в котором улицы и дома задаются не трещинами на фасадах, огрызками архитектурных стилей и формой штанов, сохнущих на балконах, а сочетанием огней — уличных фонарей, окон, огненных линий ночных реклам, судов, томящихся на рейде порта, Луны наконец. Ночью я становлюсь точнее в оценках и увереннее ориентируюсь. Во всем: в сигнальных огнях городов и в самих городах, и в людях, которые их населяют. Ночь отсекает лишнее, оставляя главное.
Часа за полтора до рассвета мы возвратились в пансионат. Я провел два дня за рулем и не спал ночь, но был готов сорваться и немедленно ехать, плыть, идти куда угодно. Ощущение свободы, давно и, казалось, навсегда забытое, вновь вернулось ко мне. Больше не существовало распорядка, не было рутинных обязанностей и обязательств, подчинявших мою волю. Я чувствовал силу, я получил власть над обстоятельствами, теперь не я зависел от них, но они от меня. И все это — благодаря невысокой женщине с каштановыми волосами, в карих глазах которой отражалась прохладная тень весенней крымской ночи.
Утром мы поехали на Ай-Петри. В горах была зима. На яйле лежал сырой снег, над ним стремительно и тихо проносились тяжелые хлопья тумана. У метеостанции суетились какие-то дети, люди, лаяли собаки. Мы медленно миновали небольшой уродливый базар, проехали несколько километров к северу, и я остановил машину.
Пронзительный, острый ветер резал лицо. Склоны гор щетинились темной зеленью сосен. На покатом куполе одной из возвышенностей торчали какие-то угрюмые строения, были разбросаны вагончики и локаторы.
— До чего же люди умеют портить… всё, — сказала вдруг Вера. — Уродовать своим присутствием. Горы, море… Как без нас тут было красиво. Наверное, мы — болезнь. Вирус. Мы заразили Землю и теперь не успокоимся, пока не сожрём ее.
Я вспомнил, но не стал ей говорить, о том, как похожие мысли пришли мне в голову на Камчатке, лет пятнадцать тому назад. Взобравшись на какую-то безымянную сопку, я с тоской смотрел на чистую брейгелевскую зелень Авачинской бухты, на плавные линии вулканов и на грязный город, отвратительным грибком разросшийся вдоль бухты. Неряшливые, растрескавшиеся панельные пятиэтажки, черный, жирный дым котелен…
— Зато как красиво смотрелись тут всадники.
— Всадники? — не поняла Вера.
— Всадники Истеми, — я открыл дверцу машины. — Едем. Расскажу по дороге. Сегодня очередь моих сказок.
Мы двинулись дальше на север, сделали большую петлю и вернулись в Ялту уже после обеда. Я успел рассказать Вере нашу историю целиком: от начала и до событий трехдневной давности, до разговора с ее отцом на Подоле в кафе «Домашняя кухня». О том, что именно доцент до самого недавнего времени виделся мне виновником наших бед, я говорить не стал и о его связи с Комитетом тоже не вспоминал. Первое оказалось ошибкой, а второе уже не имело значения.
— Удивительно, — покачала головой Вера, — я ведь знала эту историю в кусках, в отрывках. Мне было лет восемь, когда отец рассказывал дома, что несколько студентов отчислены за «игру с политической подоплекой». Никогда не понимала, что это значит, но выражение запомнила точно. Игра с политической подоплекой. Какая глупость… И, кстати, я читала этот ультиматум, но уже позже, намного позже.
— Ультиматум Коростышевского?
— Саша, я не знала ваших фамилий. Ультиматум Императора Карла какого-то там…
— Карла XX. Это и был Коростышевский. Как он к тебе попал?
— Наташа показала. Наташа Белокриницкая, ты же ее знаешь.
— Знаю, знаю. Конечно, знаю. Интересно, откуда он у нее?
— Спроси. У меня есть ее телефон. Записная книжка осталась в Киеве, вернемся, я тебе его дам. И адрес есть. Наташа уже лет пять, как из Европы перебралась в Штаты. Работает в Массачусетском технологическом. И она давно не Белокриницкая.
— Обязательно спрошу, — согласился я и покачал головой в точности, как Вера. — Удивительно.
Вернувшись в Ялту, я посмотрел почту. От Курочкина на этот раз не было ничего, зато отозвался Канюка. «Я в Запорожье, — написал он. — Буду рад тебя слышать, видеть и т. п. Только не по делам Курочкина. Он завалил меня какими-то депешами, но я их не читаю и вообще слышать об этой твари ничего не хочу». Канюка дал номер своего мобильного, я ему тут же перезвонил, и мы договорились встретиться через день у него. Позже не получалось, Вадик уезжал в командировку, а откладывать встречу надолго я не хотел.
На Ялту у нас с Верой оставалось полтора дня. Вечером мы снова ушли в город, но на этот раз возвратились не поздно.
С утра восток был затянут светло-серой пеленой, и солнце едва проглядывало небольшим матовым шаром. Я лежал, не шевелясь, разглядывал утреннее солнце, широкое — во всю стену — окно с раздвинутыми занавесками, кресло с джинсами, свитером и рубашкой Веры и подушку с небольшой вмятиной — она спала на ней. Она спала на ней, и подушка честно хранила след ее головы, пальцами я еще чувствовал нежное тепло ее кожи, а на губах сохранялся слабый вкус черной смородины — вкус ее губ. Из-за двери душа доносился чуть слышный шум воды. Я лежал тихо, тихо лилась вода, тихое солнце поднималось за низкими облаками. Наверное, это было счастье. Не знаю, я не успел понять. На тумбочке лежал пульт, и я зачем-то включил телевизор. Убрав звук, пробежал по каналам и остановился на украинских новостях. Я редко смотрю новости, не только украинские — любые, поэтому щекастые физиономии наших политиков, витийствующих в заляпанных позолотой интерьерах, по большей части мне не знакомы. На экране одна голова сменяла другую, мелькали унылые пейзажи киевских пригородов, вывески с названиями населенных пунктов. Время от времени, чтобы сказать несколько слов, выныривал ведущий. Ближе к концу выпуска ведущий задержался чуть дольше обычного, и я решил, что он прощается и просит не переключать канал, потому что после рекламы зрителей ждет прогноз погоды, а следом — увлекательное семейное ток-шоу. Но я ошибся, вместо рекламы мне показали Курочкина. Запись была старая, времен его вице-премьерства, ничего свежее у них видно не нашлось. Курочкин что-то бодро вещал на ступеньках у входа в Кабмин. Затем на экране мелькнула вывеска банка — я так понял, что это был банк Курочкина, — и какой-то человек протестующе замахал руками у объектива камеры, давая понять, что комментариев не будет. Следом показали вывеску Генпрокуратуры. Я потянулся за пультом, но случайно уронил его, а когда, наконец, поднял и включил звук, успел разглядеть только последние кадры репортажа: желтая земля, белые дома с плоскими крышами и флаг Израиля на переднем плане.