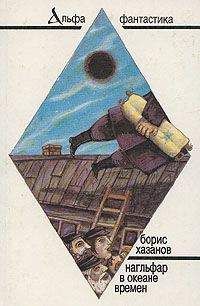Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет приблизились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны своим делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житейский факт, ясный для обоих. Был ли он следствием идейных расхождений или, наоборот, причиной, не имеет значения. Наше далёкое отечество, всё глубже, словно скалистый остров, тонувшее в дымке, всё дальше уходившее от нас в свою собственную недоступную жизнь, — для Клима это был единственный свет в окошке. Вся наша деятельность должна была служить подготовкой к возвращению. Он так в него верил, что временами меня охватывало сострадание. Он знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не ведал. Я ничего не добивался. Я питал — чем дальше, тем сильнее — отвращение к «идеям». Выражаясь поэтически, Клим верил в Россию, — а я? Будет ли преувеличением сказать, что вся Россия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с моей головой покоилась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось тому три года или около этого.
Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё дальше, грозя расколоть льдину, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал со временем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на ночном небе. Клим жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал новости, как и подобает истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены для него огромного значения. Но мы по-прежнему были прикованы друг к другу, словно каторжники, и волочили вдвоём нашу тачку; тот, кто хотел бы ускорить шаг, должен был потащить за собою товарища.
Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задребезжал телефон, словно там дожидались, когда я войду.
«Hallo», — сказал я скучным голосом.
Но это была не баронесса.
«А, — сказал я. — Привет».
Там молчали.
«Привет, — повторил я, — это ты? Извини, я ещё не говорил насчёт работы, надо подождать…»
«Успеется. Я не поэтому звоню…»
«Что новенького?» — спросил я, не зная, что сказать.
«Ничего».
«Откуда ты узнала мой телефон?»
Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной стороне журнальной обложки. В доме на улице Шеллинга рядом с входом висела наша вывеска. Всему этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если журнал в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеется, были сотрудники славного ведомства — первыми и, возможно, единственными. Получалось, что мы трудились для них. В редакцию заглядывали подозрительные личности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, Клим, я думаю, был бы доволен.
«Мы увидимся?» — спросила Мария Фёдоровна.
Я что-то ответил.
«Когда?»
Новый звонок раздался, едва только я положил трубку.
«Да», — сказал я, поглядывая на дверь, откуда в любую минуту мог показаться Клим.
XIII
В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и поглядывал с высоты на площадь, голубей и туристов, на колонну с кукольной Богородицей и затейливый циферблат на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испытывая некоторое облегчение, — в эту минуту она появилась: маленькая рыжеволосая женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я подумал, не следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к ручке. Повесил на вешалку её плащ.
«А знаете, — сказала она, усевшись, оглядевшись, это было то, что называется буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставленными столиками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить негромким голосом, выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения кельнеру, полузакрыв глаза, — знаете… — она коснулась пальцами пышных волос и расправила широкое платье, — на самом деле я пришла во-время. Я наблюдала за вами!» «Чтобы решить, стоит ли продолжать со мной знакомство?»
«Я размышляла о вашей судьбе… Вы приглашены», — сказала она, опуская глаза, почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. Без всякого любопытства я пробежал глазами меню.
«Позвольте рекомендовать вам… Как насчёт божоле — лёгкого, молодого?» Официант принял от нас похожие на почётные грамоты папки с картами меню и напитков и удалился.
Я поглядывал на субтильную баронессу со странным именем Света-Мария, она смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего между нами.
«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь, — это было сказано небрежно, — он не знает о нашей встрече…»
«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение переговоры с…»
«Ах, да, да. Можете передать ему… впрочем, муж сам ему позвонит».
«Коллега не говорит… э…»
«Ах, да. Конечно. Ну, как-нибудь обойдёмся. Муж позвонит вам. Скажите… Ведь это, наверное, очень трудно — жить в стране и не говорить на языке её народа?»
«Большинство наших так и живёт».
«Как я им сочувствую. Но ведь когда живёшь в чужой стране, необходимо научиться».
«Вы правы».
«Я имею в виду необходимость адаптации».
«Так точно».
«Вы отвечаете, словно в армии».
«Так точно».
Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, она спросила:
«Как вы относитесь к музыке?»
«К музыке?»
«Да. Я хочу сказать — любите ли вы музыку?»
«Смотря какую».
«Я хочу сказать, настоящую музыку».
«Настоящую люблю».
«У меня предложение…» — проговорила она и остановилась. Кельнер приблизился со своими дарами. «Ого», — сказал я.
Она поблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манекена. Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня — с фарфоровой кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной причёске семнадцатого столетия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, должно быть, обтянутое розовой материей.
«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится. — Она была уверена, что я не только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бокал. — Prost… э-э…?»
Я назвал своё имя.
«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадываюсь, о чём вы думаете!»
«О чём же?»
«Вы думаете: кругом искусственные люди, всё у них рассчитано, подсчитано, и живут они рассудком, а не по велению сердца… Ведь так? Русские очень высокомерны. Я хочу сказать… Вероятно, западная психология…»
Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. Выпустила дым к потолку.
«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».
Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка равнодушна ко мне. Если же нет… Мне не пришлось долго ждать в фойе, баронесса явилась, оживлённая, с блестящими глазами, издающая еле ощутимый аромат духов, и несколько времени погодя мы оказались в высоком сумрачном зале, где, впрочем, изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая люстра под потолком обливала мистическим сиянием ряды публики, колонны и гобелены с подвигами Геракла. Свет померк. Пианист появился, встреченный аплодисментами. Народ сидел, оцепенев, как обычно сидит здешняя публика. Пианист играл Адажио си-минор, насколько мне известно, оставшееся без названия, — поразительную вещь, от которой невыносимо тяжко становится на душе; может быть, начало какого-то более крупного произведения, которое Моцарт так и не написал, увидев, что уже всё сказано, что дальше может быть только молчание, терпение и покорность судьбе. И в самом деле, зал безмолвствовал, когда музыкант, уронив руки на колени, опустив голову, сидел перед своим инструментом; потом раздались неуверенные хлопки.
Что-то происходило со мной, к стыду моему, — я совсем не был расположен вести светскую беседу и охотно распрощался бы с баронессой, поблагодарив за доставленное удовольствие; вместо этого я нёс какую-то чушь. Как ни странно, немецкая музыка всегда напоминает мне страну, из которой я бежал сломя голову.
«Только музыка?» — спросила она. Да, музыка и ничего больше. Сеялся мелкий дождь, она сунула мне ключи от машины, я принёс зонтик, и мы побрели в Придворный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде с колоннами, и город церквей и сумрачных башен, в призрачных огнях, влажной паутиной обволакивал нас. Город, сотканный из вещества того же, что и сон.
«Откуда это?»
«Шекспир. Буря».
«Мне кажется, там сказано иначе».
«Какая разница».
«Вы в это верите?»
«Во что?»
«Вы верите в сны?»
«Госпожа баронесса…» — проговорил я.
Она поправила меня: «Света-Мария».
«Пусть будет так… Давайте внесём ясность. Я благодарен вам. Вы проявили ко мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за того, кто я на самом деле…»