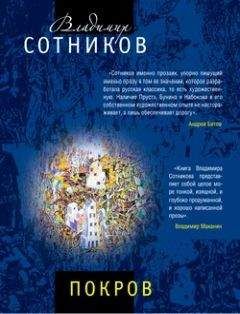Ознакомительная версия.
«Ну, а мороженого ты хоть поел?» – спросил дядя, и, когда в ответ он, сжав губы, кивнул головой, все громко засмеялись, и этот смех превратил весь день в мягко переходящие друг в друга картинки, и даже его поездка, все еще пугающая своей непонятностью, вдруг стала обычной, поместившейся в бесконечности прошедшего дня.
Он часто потом вспоминал ту минуту, когда сказал в кассе: «Два билета до города». И все, что было до и после этих слов, смотрело сквозь них друг на друга, вглядываясь в свое отражение, замечая с годами все большее и большее несовпадение.
Это несовпадение на годы растянет томительную тревогу раздвоенности и ощущения, что обычная его жизнь проходит рядом, не соединяясь с чувствами.
Но пройдет время, и он обнаружит в себе странную потребность повторения всего, что было до той границы, которую он так и назовет – день рождения, – когда впервые уехал из дома. В воспоминаниях изменятся лица людей, их слова, время подчинится новым законам, и в этом не будет ни обмана, ни искажения.
Даже забытые события и дела окажутся словами – их оживление лишь поможет неподвижному и напряженному вглядыванию в темную поверхность воды, в которой, наконец, он увидит отражение покрова, сотканного из первых в жизни чувств.
Дед умер осенью, в последние теплые дни, и за год до этого, словно почувствовав начало последнего годового круга, стал каждый день просиживать у окна спальни, глядя на улицу. Вставили двойные рамы, и застывший между стеклами воздух не пропускал ни звуков, ни приносимых раньше этими звуками быстрых, вспыхивающих на мгновение чувств – неподвижный взгляд уже из памяти извлекал привычное сопровождение: моросящий дождь собирался в крупные капли на ветках, и капли падали с шелестящим звуком, почти неразличимым, если даже стоять под самыми каплями; за идущим по тропинке человеком возникали двойные шлепки сапог по грязи, хотя и не видно было, во что человек обут, – скрывал невысокий плотный забор. Какая-нибудь птица случайно залетала сюда и, посидев на ветке, оставляла ее качающейся долго и одинаково. И хотя эти движения были беззвучными, свежесть встревоженного воздуха притягивала взгляд, словно в том месте должно было вот-вот появиться что-то живое, сотканное из роящихся, как во сне, чувств.
Само собой получилось, что никто не мешал деду – старуха с самого утра суетилась на кухне, сын с невесткой были на работе, а если и случалось им быть дома, то соседняя со спальней комната оказывалась пустой, и комната эта напоминала пространство между рамами – воздух в ней был такой же неподвижный. И когда все же открывались и закрывались двери в доме и слышались шаги, то чувствовалось, что звуки эти приглушены, в них вздрагивало, обнаруживая себя, желание тишины и покоя.
Тихое прикосновение осторожной руки к двери с одинаковым привычным скрипом пролетало через комнату и вызывало у деда одно и то же чувство – неудержимое, уплывающее знание о своей болезни. Иногда дед выходил на улицу – останавливался и смотрел на окно, и казалось, что наталкивается на свой же взгляд изнутри, из спальни, – так встречались его собственные взгляды через двойное стекло.
То, что его выписали из больницы из-за бессмысленности лечения, было понятно давно. Об этом он не говорил ни с кем, и с ним об этом не говорили – только тишина, поддерживаемая старательно в доме, подтверждала страшную и чужую навсегда догадку.
Он не боялся, а томительно прислушивался к себе, и вот начались, пошли один за другим дни, проживаемые впервые в ясной, звенящей тоске. В каждую минуту стремилось поместиться так много из прошлой жизни, что ни словам, ни воспоминаниям не хватало места. Несколько раз он пытался заговорить с сыном, но и в словах, и в молчаливых глазах сына было все то же значение, и нельзя было ни говорить, ни даже молчать под таким взглядом. Легче всего было сидеть у окна – медленно текущее время почти не замечалось, и все виденное, привычное до каждой черточки на стволах деревьев, черных точек на стекле, с каждым днем тяжелело от чувств, прилетающих из прошлого.
Однажды, уронив голову на руки, он увидел кого-то в темноте закрытых глаз – и очнулся, подняв голову. Стало вдруг легко и ясно на душе – и он понял, что придумал для себя новое, и открывание ящика стола, поиски там тетради и ручки были уже обыкновенным исполнением только что вспыхнувшего, еще неясного до конца желания.
Наверное, при этом дед даже оглянулся на дверь, радуясь, что никто, кроме него, не знает, чем он будет сейчас заниматься.
На первой странице дед поставил число, думая, что ручку придется долго расписывать, и, оставив на потом надпись на обложке, написал первые слова, ни над одним из которых даже не подумал – они сами легли на странном, округлом, как все верхние строчки, почерке: «Я приехал в М., представляющий собой город с деревянными тротуарами, спасающими пешехода от непролазной грязи. Одинаковые заборы доказывали общее в нравах местных жителей».
Потом, и это будет ясно по другому цвету чернил, дед исправлял написанное, надеясь переписать в будущем набело, но эти строчки остались нетронутыми. Обложка первой тетради сохранила незачеркнутой только маленькую цифру «1» в правом верхнем углу и целый столбец друг под другом перечеркнутых время от времени названий, из которых лишь слово «Автобиография» было обведено, впрочем, не совсем отвергая длинную прямую линию, нанизавшую на себя аккуратные буквы. Так что ни «История моей жизни», ни «Юность» и «Жизнь в М.» – не стали названием. Человек со странной внешностью – можно ли вспомнить свое лицо? – зашагал по деревянным тротуарам города М., с удивлением замечая, как ноги не попадают в свои же следы, зная наперед всю свою жизнь до самой последней комнаты – спальни с одним окном на пустую улицу.
Человек этот не произносил слов – не слова, а их гудящий смысл проносился сразу перед ним, теряясь и растворяясь в разных обрывках, то ясных до последней черточки, то расплывчатых, как во сне: кричащие рты, застывшие фотографии, поворот дороги, нечаянно и навсегда пропущенный в неудержимом движении – то ли полет, то ли легкий, как в детстве, бег с пропадающей под ногами землей…
Первая тетрадь кончилась неожиданно, хотя на последней странице дед писал мелко-мелко, словно не догадываясь достать другую тетрадь, уже приготовленную в ящике стола. И вдруг жалко стало, что писал без разбора, на весь лист, не оставляя полей, и во второй тетради появились поля с мельтешащими пятнами вставок – эти белые вертикальные полоски даже требовали слов, скобок, стрелок.
Дед долго скрывал свое занятие – легко было это делать, и если заходила в спальню старуха, то он накрывал тетрадь руками и опускал на них голову, и в этой детской позе было столько защищенности, что старуха даже забывала, зачем она приходила, тихонько закрывала опять за собой дверь. За дверью, в передней комнате, шептала сыну: «Сморило его, так за столом и сидит, голову опустил…» А дед поднимал голову, чувствуя, как вдруг заторопилось время, и спешил к тому слову, которое мелькнуло перед этим в темноте и уже дожидалось, что его догонит быстрый почерк.
Между дедом и человеком, появившимся в городе М., натягивалась, крепла с каждой новой фразой связь, которая так и не смогла найти свое название в зачеркнутых на обложке словах. Любое событие, всплывающее в памяти и пронзенное этой связью, удивляло странностью и деда, и оживленного им же человека, который долго представлялся с мешком за плечами – да-да, сидор, так и назывался этот мешок, сидор, и очень удобно прилегал к спине, – вспоминал дед. «На всю жизнь хватило постепенной утраты полнейшего, как мне казалось в юности, сходства с отцом. И дом, в котором я пишу эти слова, совсем не похож на хутор, связанный с большой дорогой только лесной тропинкой шириной в одну колею от телеги, – и ушел я по этой тропинке пешком», – так заканчивалась одна из тетрадей, и следующая тетрадь была совсем другого формата и цвета. Скорее всего дед посылал старуху в магазин за тетрадями, и та, всю дорогу думая одно и то же: «что с человеком болезнь делает», – выбирала в магазине из небольшой стопки посолиднее и потолще. На обложках под изображением колхозницы и рабочего крупно было написано «Общая тетрадь», и эту надпись дед тоже зачеркивал.
Странно – с первых страниц деду было ясно, что описывает он свою жизнь, всю, от начала и до конца. Чуть ли не физически он ощущал перед собой какой-то объем, и полнота его выливалась цепочкой вспыхивающих новых слов. В перерывах между тетрадями не пугала даже пустота, в которой он отдыхал, привычно глядя в окно, – открывая новую тетрадь, достаточно было только написать несколько строк, и уже нащупывалась уверенность, пропускающая вперед себя слова. Но однажды, когда герой вдруг начал вспоминать детство, дед почувствовал, что появилась путаница – казалось, два человека, встретившись наконец, вспоминают, перебивая друг друга, об одном и том же. И тут дед понял, что он ошибся в самом начале, хотя ошибка эта сразу осталась незамеченной в странной своей естественности: детство было пропущено, и начало воспоминаний дед почему-то поместил в город М., когда вдруг увиденным оказался человек, гулко застучавший сапогами по деревянным тротуарам. Не перечитывая, а просто вспоминая написанное, дед понял, что такой полноты, какую он ощущал в самом начале, не получилось – память провела его по новой, неожиданной тропинке.
Ознакомительная версия.