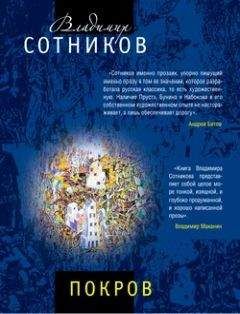Ознакомительная версия.
Это открытие приостановило работу надолго, хотя впереди еще оставалась большая ее часть. Дед оцепенело смотрел в окно, словно был обманут и обижен. Прошло много дней, пока пустота стала невыносимой, и, чтобы избавиться от нее, дед попробовал опять писать. Сначала это было трудно, каждое слово оказывалось чужим, ненужным, но постепенно дни связались между собой одинаковостью занятия – разве только медленней переворачивались страницы и чаще становились перерывы.
И, уже научившись видеть несовпадения, в которых память вздрагивала написанными словами, дед, смирившись со своим неумением, писал с настойчивостью, отработанной за всю жизнь, и строчки с такой же настойчивостью ложились одна за другой, и это было похоже на застывающий за невидимым в высоте самолетом белый шлейф – стремительный в самом начале, он останавливал свое скольжение назад в одной точке и становился широкой полосой.
Выпал снег, изменив все за окном и осветив по-новому комнату, но сразу установились и пошли друг за другом одинаковые дни, и было похоже, что это вспыхивает один и тот же день, пропуская черные промежутки ночей. Короче становился свет, длиннее были ночи – казалось, время замирало, останавливалось в таких чередованиях. В темноте ясно и отчетливо скрипел снег под чьими-то шагами, и блестела, дрожа, длинная трещина в оконном стекле.
Дед сидел, не включая лампу, и в комнате слабо мерцало только окно и светился циферблат ручных часов, которые всегда лежали на столе. Эти часы без единой поломки шли с самой войны, и с годами только слабело в темноте голубоватое свечение. Вошла старуха, включила яркий, слепящий сразу свет и стала загибать на висящем у двери календаре лист, подсовывая его под резинку. Раньше дед иногда шутил: «Ты что не отрываешь, собираешься на следующий год календарь использовать?» Но сейчас глянул на тугой пучок листочков, удерживаемых резинкой, и сказал: «Ты передай всем нашим, чтоб пришли на Новый год – скажи, папа просил». Старуха обрадовалась его голосу, закивала, заговорила быстро: «Да я уж давно сказала – придут, все придут, и сами того захотели». В ту ночь дед долго не мог уснуть, представляя всех, кто через несколько дней соберется за столом в соседней большой комнате. Сын с невесткой и сейчас там спали – их спокойное дыхание слышалось даже через дверь вместе с громким тиканьем настенных часов. А дед, словно в полусне, видел идущие по темной улице фигурки – так будут идти сюда старшая дочь с мужем и детьми. Дед уснул, совсем по-детски храня в себе ожидание уже недалекого новогоднего вечера.
В следующие дни он не смог писать, даже не раскрывал тетрадь, а думал, что скажет, когда его будут слушать дети и внуки.
Дед представлял праздничный стол, заставленный тарелками, бутылками, вот затих беспорядочный разговор, и во всех глазах – старание серьезности и внимания. Кажется, ждут не слов, а конца этой тишины, которая удивляет всех одним чувством. Сколько дед ни обдумывал свои первые слова, они даже в мыслях уже звучали по-чужому, он старался их забыть, чтобы не сказать на самом деле, и только эта картина, когда он стоит в тишине у стола, высокий и чуть наклонивший голову, оставалась неизменной. Дед боялся, что все слова после этого будут похожи на тост, и это подтвердят чокающиеся рюмки, а ему хотелось, чтобы чувство, с каким он поднимется медленно, дождавшись этой минуты, не потревожилось, а сохранилось и даже поделилось на всех, кто будет за столом. Похожее желание всегда было в нем, когда писал: то, что он чувствовал, мгновенно менялось на бумаге, и он спешил, словно догоняя ускользающее впереди.
Прошел последний, длинный день перед новогодним вечером, за дверью – звяканье посуды, вот уже слышны голоса дочери с мужем, их детей – здороваются, раздеваются – так знакомы все эти звуки. Заходят в спальню – холодный свежий запах пришедших с мороза людей, он хочет встать со стула, его удерживают, поздравляют, целуют, слезы льются сами, слабые, и потому нельзя их сдерживать. Дед опускает голову – уже привычка в последнее время, наверное, после больницы, говорит: «Ну, идите туда, я сейчас, сейчас выйду», – и через какое-то время по звукам догадывается, что там все готово, все ждут его. Заглядывает старуха: «Ну, пошли, давай помогу», – но он старается улыбнуться, бодро поднимается и выходит – много света, стол сверкает, и все смотрят навстречу радостно и ожидающе. Он садится, спрашивает о погоде, и сразу это подхватывается, все говорят наперебой, весело и шумно.
И когда проходит время, и уже выпили несколько раз, и общее ожидание смешалось с гулом разговора, дед встает, обводит всех глазами и вспоминает – да, так он и представлял эту минуту. И так же не знает, с чего начать, и когда уже тишина застыла, затянулась, он просто так, только чтобы нарушить ее, говорит: «Ну вот, собрались…» – и опять молчит. А потом неожиданно для себя, уже без остановки, говорит тихо, успевая радоваться, что не надо думать над этими словами, которые сами собой произносятся: «Я вот думал, что вам сказать – последний мой Новый год – конечно, поздравляю, хочу, чтобы вы были хорошими людьми, чтоб не стыдно было мне… Там, в столе, тетради – конечно, подумаете, что старик свихнулся, но вот умру, может, почитаете, может, интересно кому будет – внуки вырастут… Пока силы будут, буду вспоминать, записывать, хотя и не умею я это». Дед посмотрел на всех, и ему показалось, что и о тетрадях всем известно, и даже веселее от этого стало. «Ну что же, главное – любите друг друга, на то и родня…» Он сел, боясь заплакать здесь, за столом. После паузы все зачокались – тихо, без лишнего звона. Он тоже взял рюмку, невесело пошутил: «А что, напьюсь сейчас, я пьяница известный…»
Он скоро пошел спать, все еще долго сидели за столом, насколько можно, старались не шуметь, и совсем обычно, как и всегда, прошла эта новогодняя ночь. Старуха проводила за ворота дочь и еще долго стояла, глядя, как все они идут под фонарями. На улице слышались громкие голоса – возле соседней хаты гуляла молодежь.
Через несколько дней после Нового года дед опять стал писать, и казалось, что более спокойно ложились друг за другом слова. Так же, как и тогда, за столом, они освободились от волнения и особенного смысла, с которым так трудно было им совпасть, и дед старался просто переписать все события, которые удавалось вспомнить, и только больше на страницах появилось дат, и на самих обложках указывались границы времени.
Весной, когда сошел снег, прошли холодные дожди и уже зазеленели деревья, деду стало хуже, он кашлял надрывно, подолгу, хватаясь двумя руками за грудь, падая на стол лицом, – и это забирало последние силы. В перерывах между приступами кашля он отдыхал, дыша шумно, с хрипами, и на лбу блестел пот. Стопка последних тетрадей лежала на дальнем краю стола, а в столе, в укромном месте, почему-то отдельно были помещены самые первые тетради, и верхняя из них начиналась словами: «Я приехал в М., представляющий собой город с деревянными тротуарами, спасающими пешехода от непролазной грязи. Одинаковые заборы доказывали общее в нравах местных жителей».
Дед уже больше не писал. В редкие минуты, когда боль отпускала, он все старался вспомнить что-то, никогда еще не возникавшее в памяти, но повторялись знакомые, много раз виденные картины. Это было похоже на перелистывание тетради, где по одному мелькнувшему слову мгновенно восстанавливается и вся страница. Эти страницы мельтешили, и казалось, вот-вот легко и свободно вылетит наконец случайно оказавшийся среди них, сложенный словами внутрь забытый листок.
После смерти деда тетради еще долго лежали в столе, потом были разобраны родственниками – почему-то частями, так и оставшись, уже навсегда, разделенными, и, наверное, поэтому казалось, что где-то существует еще одна тетрадь, в которой описано детство, и слова «Я приехал в М.» были только его продолжением.
Странно проходят события, на которых растянута, чтобы не скомкаться, жизнь. Эти отдельности встают, как холмы в тумане, и в провалах, углублениях собирается забытое – пропадают в темноте слова, беспомощные и дрожащие, если не удержатся на склоне, – бесконечная, непрерывная утрата. А вверху, как на ночном небе, – мерцание нетронутого времени. И всегда стоит у своего дома маленькая фигурка, запрокинув голову, смотрит на утопающие в бесконечности звезды, стараясь различить неуловимое падение, вспыхивающее далекой холодной искрой.
После похорон деда долго еще сохранялось странное чувство двойной жизни, и та ее часть, которая неожиданно и страшно закончилась кладбищем, холмами могил, одинаковыми лицами собравшихся людей, – держала все чувства в оцепенении. И потом, через несколько лет, когда он будет вспоминать ту осень с мерцающими в черном небе звездами, то подумает, что детство и кончилось, потеряв свою границу в тех холодных вечерах.
Он шел по лесу ночью, по зимней, укатанной санями дороге, стараясь наступать в гладкий след полозьев, и шаги при этом были бесшумны. Страх в ночном лесу, если идти долго, становится привычным, привычно пробегает по спине холодок от маячащих впереди кустов – всегда они на что-нибудь похожи. Кажется, все вокруг слушает шаги, дыхание, шуршание одежды. На губах и близко-близко от лица – сладкий и чистый запах недавних поцелуев, щекочущих волос, шепота, еще звучащего ее словами: «Поздно уже, пора тебе идти – далеко же…» Он думает, что и засыпать дома будет еще с этим запахом, со своим звучащим в ушах именем, которое она произносила протяжно и ласково: «Ну Ванька, Ваня…» – и улыбается в темноте. Идти становится веселее, он хочет даже побежать – вот за тот поворот дороги – и останавливается, от неожиданности вздрогнув. Сбоку от дороги, за негустыми деревьями, на поляне горит костер. Пламя – высокое, свежее – только что охватило сучья целиком, и даже слышно потрескивание, и далеко вокруг освещается снег, прыгают от деревьев тени, но никого нет возле костра. Он стоит долго, не мигая, смотрит туда, но ничего не меняется, и ясно вдруг становится, словно знал об этом раньше и сейчас вспомнил, что и правда никого там нет – уже летят вверх искры, чуть слышно гудит воздух, а вокруг – пустота, только отступают в темноту, приседая, кусты. Он вглядывается в снег рядом с костром, но нет следов, снег чист и только плавится, растаяв вблизи от пламени. Становится внезапно холодно – там пылает жарко костер, а он застыл здесь, словно не умея даже дрожать от холода. Потерялось время, он не знает, сколько уже смотрит на неутихающее пламя, и вдруг, пересилив себя, отступает, потом еще и еще, отводит взгляд от костра, через мгновение опять оглядывается – но ничего не изменилось. Он идет все быстрее, все чаще оглядываясь, за поворотом костер только мелькает между деревьями, и вот пропадает совсем, только стволы освещены, по ним все прыгают, скользят вверх пятна света. Он чувствует, как на голове кожа стянута от холода, хочется почесать голову прямо шапкой, двигая ею вперед-назад, но не может – и только выйдя из леса совсем, оставив позади темную его стену, снимает шапку, хватается рукой за голову – словно чужие, замерзшие волосы.
Ознакомительная версия.