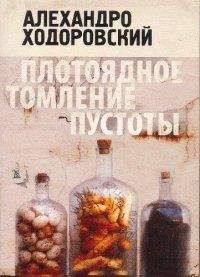Ночной Сус светится изнутри — витринами, фонарями, уличными кофейнями, белками глаз, обнаженными в улыбке зубами гуляющих по набережной — как будто источник света спустился на землю. Но когда мы подъехали к площади перед Мединой и я вышел и двинулся к воротам под чернильными провалами теней от деревьев, я как будто входил в ночь. Снаружи на стене Медины горели два прожектора, но внутри, за стенами, они были бессильны. Здесь светила луна. Зеленоватый свет клал на площадь зубчатый контур мечети и силуэты пальм. Я свернул в узкую улочку с единственным фонарем на углу и шел, наблюдая, как удлиняется моя тень и гаснет в синевато-зеленом свечении. Окна лавок черны. Пористая поверхность стен припорошена лунной пылью.
Потом впереди вроде как послышались голоса, я вышел на перекресточек. На скамье смутные фигуры нескольких мужчин, огоньки сигарет, голоса спокойные, домашние. Возле взрослых двое малышей. Вечерний покой. А за их спинами вверх поднимается следующая улочка, мертво поблескивают металлические жалюзи, отсвечивает булыжник мостовой, далеко у поворота — фонарь. И блеск булыжника кажется сонным и зловещим. Натура для Хичкока. Идти дальше не хочется. Дело не в Хичкоке. Просто на этих улицах наступило время Медины. Она вернулась к себе после дневной работы. Мужчины, приняв душ, вышли с детьми перед сном выкурить по последней сигарете. Ну, а для тебя Медину откроют утром, выложив на прилавки товар, залив в ресторанные котлы воду для кофе и тунисского мятного чая, а сейчас ты здесь лишний.
И тихо, стараясь не обнаруживать своего присутствия, я развернулся и пошел назад к площади, постоял там, любуясь фантастическим по нашим временам зрелищем — старинной мечетью и крепостью, пальмами подлунным светом, и через пять минут уже шел по горящей огнями набережной, где за выставленными на тротуар столиками сидели восточные мужчины, где играла музыка, мощные прожектора высвечивали накатывающие из черной мглы к набережной сиреневые волны, светились за стеклом фитильки свечей на ресторанных столиках, катили блестящим потоком машины, и жизнь здесь как бы только разгоралась. Ну а средневековый, отходящий сейчас ко сну арабский город остался там, в пористой зеленоватой мгле лунного света. Арабик-сити. Медина Суса.
Сюда я забрел случайно. Как бы. Сосед по отелю потрясенно рассказывал, как шел он, шел по мединским улицам и вдруг оказался в таком месте, где на тротуарах стояли голые бабы. «Ну, должен сказать тебе, это…» — ну а дальше мужику просто слов не хватало. И, гуляя по Медине, я держал в голове возможность оказаться в этом квартале, но как-то не получалось. И бог с ним. И вот, возвращаясь из археологического музея вдоль стены снаружи, я решил пройти сквозь Медину. Я вошел в дальние, незнакомые мне ворота, свернул налево и тут же уперся в странные ширмы, перегораживающие улицу. За ширмами все, как и над, — слева стена Медины, под ней пара торговцев стоит перед разложенным на земле товаром, справа фасад дома, щегольски отделанный кафелем, с несколькими крылечками и полуоткрытыми дверьми над крылечками. Щель за ними притягивала взгляд, и я разглядел там такой же белый кафель, отчасти чистота процедурного кабинета в медицинском учреждении. Ничего интересного. Впереди улочка сворачивала направо, я прошел мимо и повернул в следующую, более людную, и вот тут я увидел — причем даже не удивившись почти — на углу, возле приоткрытой двери двухэтажного обычного дома, женщину, одетую только в трусики и лифчик. Лицо у нее было абсолютно спокойное, поза — непринужденная. Как если бы, только что приняв душ, она вышла в своем закрытом дворике на солнце. Но это не был закрытый дворик дома, она стояла на тротуаре грязноватой оживленной улицы. Далее еще одна дверь, распахнутая в крохотную прихожую, где стоял стул, а на стуле сидела женщина с огромной обнаженной грудью. В следующей открытой двери, точнее, не двери, а как бы в витрине со снятыми жалюзи, открывается пространство комнаты, в центре ее на двух стульях в непринужденных позах застыли девушки, третья, высокая, в полурасстегнутых джинсах, с обнаженным верхом, стоит прямо, как манекен. В следующей витрине комната с интерьером гостиной из современной мыльной оперы — софа, кресла, столики, музыкальный центр, комната заселена женщинами, одна полулежит на диване, вскинув длинные ноги, другая стоит у столика с радиоаппаратурой, демонстрируя практически открытые ягодицы и длинную прямую спину, третья — на софе, четвертая… и т. д. — немая сцена под названием «Публичный дом». Мимо этих витрин-дверей мужчины идут так же медленно и неторопливо, как и я, искоса разглядывая и не решаясь остановиться. Ну а перед следующей широко распахнутой дверью — очередь. Проходя мимо, я заглянул внутрь и увидел уходящий коридор, по коридору из глубины шла девушка, завернувшись в желтый короткий халатик или в широкое полотенце, там играла музыка, женщина пританцовывала, слева от нее ряд дверей, и все это вдруг напомнило утренний коридор в купированном вагоне — женщина после утреннего туалета возвращается в свое купе. Это если не обращать внимания на ее голые плечи и ноги. Четыре двери в стене коридора, за ними сейчас идет трудовой процесс. Очередь из мужчин у входа в этот коридор похожа на очередь в мужской парикмахерской, но когда я оглядываю стоящих, они опускают глаза. Я посчитал — в очереди восемь мужиков. Ждут молча. Здесь, похоже, вообще не разговаривают. Я снова прохожу мимо демонстрационных комнат с полуголыми и голыми женщинами. Никто их не потревожил, видимо, дорого стоят. Есть красивые.
Останавливаюсь я возле группки мужиков, окруживших сидящего на каменном полу человека (именно на полу, улица слишком узка, чтобы быть улицей). Сидящий раскладывает перед собой три карты. У него смуглое пухлое лицо, бородка, как будто приклеенная, стриженная под машинку голова. Желтая новенькая рубашка, красный с белыми крапинками шейный платок, на запястьях обеих рук массивные золотые браслеты. Ихний кидала. Он держит в руках десятидинаровую купюру и что-то выясняет с играющим и наблюдающими — типа согласны ли участники игры с тем, что он по праву забирает себе эти деньги. Его слушают угрюмо, но не спорят. Стоящий передо мной невысокий худощавый араб осторожно поворачивает ко мне голову. Я чувствую его напряжение. Здесь, видимо, не принято разглядывать посетителей. Меня мучит ощущение киношной массовки под названием «квартал борделей в восточном городе». Присутствие на этой улочке еще и любителей азартной игры, дутого золота на запястьях шулера кажется кинематографическим перебором. И тем не менее это все реально. Я разворачиваюсь, стараясь не слишком торопиться. Фотоаппарат, висящий на животе, естественно, не беспокою. Не буду придуриваться крутым — в таком месте я впервые.
Ничего эротического в женщинах, которых я увидел, не было. Или хотя бы — порочного. Напротив. Поражает убогость, обыкновенность, будничность жизни этого квартала. Противоестественное ощущение порядка, заведенного не вчера и не позавчера. Так было всегда, это просто такой уклад жизни. Кстати, ни одного европейца я там не увидел.
Постскриптумом стал проход по соседней с этим кварталом улочке — на редкость грязной, тесной, с мокрыми тротуарчиками; с сидящей на каменной приступочке у своей двери плотной арабкой, она перебирает в большой миске фасоль, рядом две маленькие девочки. То есть нищие кварталы рядом с «улицами греха», тут же неподалеку, кстати, здание бывшей тюрьмы — литературная традиция не нарушена. Я чуть торможу, вытаскивая из рюкзачка фотоаппарат, женщина что-то говорит за моей спиной — интонации материнско-наставительные, к девочкам, надо полагать, обращается, и я вдруг улавливаю страшно знакомое: «Месье, ван динар, ван динар». Показалось, наверно, подумал я, но через пару шагов вдруг услышал за собой звонкий голосок: «Мосье! Мосье!» Я оглянулся — те самые девочки, лет четырех и лет шести. Говорит младшенькая: «Мосье…» Я жду продолжения, но голосок у девочки пресекается, она замолкает, потом набирает воздух в грудь и снова начинает: «Мосье». Пауза. Она что-то добавляет тихо, по-арабски. «Ну что ты, лапочка, — говорю я ей, — чего дядю так боишься. Разве он такой страшный?» Услышав мой голос, девочка поворачивается и убегает. Я иду дальше. Сзади тихо.
Молодой красавец-официант в крохотном зале на втором этаже ресторана запустил мышкой звуковые файлы со вставленного в компьютер диска и вывел на небольшой экранчик сопровождающее музыку изображение, а потом, кивнув напарнику, скинул с себя зеленую фирменную жилетку и, оставшись в белой рубахе, быстро-быстро начал спускаться с винтовой лестницы вниз — из-под локтя, упертого на подоконник, я наблюдал, как вышел он внизу на улицу, в три-четыре шага пересек ее и нырнул в проем двери напротив. Из окна сверху видны сейчас только его ноги, он внутри, в предбаннике какого-то помещения, — я вижу, как парень сбрасывает туфли, стягивает носки, закатывает фирменные брюки. Ноги уходят под верхнюю балку дверного проема. «Что там?» — спрашиваю я у мальчика, принесшего мне кофе. Мальчик выглядывает за мной в окно и говорит: «Мечеть. Нет-нет, месье, он скоро придет. Эта молитва короткая».