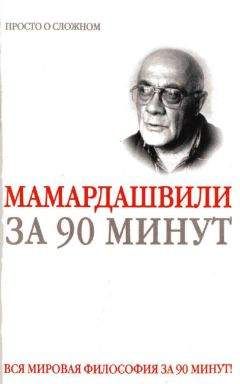— Все в порядке. Просто... ты же сам говорил.
— Что я говорил?
— Ну, что дорожное братство бессребреников, орден Иерихонской розы...
— Я это говорил? — спросил он, останавливаясь.
— Может быть, вот точно так когда-то пробирался Моцарт в Вену.
— Моцарт не пробирался. Его с четырех лет возил по столицам папаша.
— Я имела в виду не Моцарта, а Моцарта вообще.
— Он тебе так понравился?
— Моцарт?
— Да этот салага.
— Нет, но ты же сам говорил о каких-то неписаных законах дороги, мол, делись горбушкой...
— Но не подружкой? Этого я не говорил, случайно?
Она посмотрела на него.
— Уф! Ладно! — воскликнул он. — От жары все в голове расплавилось.
Она еще некоторое время разглядывала его, и он чувствовал себя подопытным кроликом, потом все так же молча отвернулась. Он подошел к столу, взял бутылку, открыл, из горлышка с шипением полезла пена.
— Хочешь?
Она не отвечала. Он выпил.
— Начинается денек, — пробормотал. — Воды нет, Моцарт, жара.
Его сентенция не произвела на нее никакого впечатления. Она все так же молчала, отвернувшись к стене. Из-под простыни выглядывало ее плечо в веснушках. Он хотел было дотронуться до него, но передумал. Подошел к умывальнику и налил в ладонь минеральной воды, отер лицо.
— Пойдем завтракать?
Оделся, причесался перед заркалом в изъеденной раме.
В музее египетские медные угасшие зеркала, словно глаза, прикрытые веками.
Могли не изобрести зеркало?
Оно встроено в человека.
Планета зеркал: сколько отражающих поверхностей. Самый воздух здесь художествен: фрески над пустынями. У арабов даже легенда об иллюзорном городе, как у нас о Китеже.
— Ну, тогда я пошел.
Упрашивать ее не было ни малейшего желания. Он вышел и столкнулся с опухшим соседом в майке и трусах.
— Что надо?
Трудный мыслительный процесс, пот на багровой роже.
— Ф тувалет, — выговорил разбитыми губами. И пошел дальше по стеночке.
Он вернулся в номер.
— Тебе лучше запереть за мной.
Молчит.
— Слышишь?
Ну, как хочешь. Значит, ей наплевать. Ждет Моцарта. Или соседей. Они втайне мечтают об этом. Как-нибудь спросить... Разве признается.
Внизу за столом дежурная холодно посмотрела — но ничего не сказала. А у него уже в горле бурлила целая речь. Но дежурная отчего-то смолчала. Куда она подевала музыканта? Пусть попробует вселить кого-то еще.
По дороге двигалась вереница грузовиков со скотом. Ленин с плакатов смотрел монголом.
Пусть к нам больше никого не подселяют!
Пива выпить бы.
Кирпичное одноэтажное строение с плоской крышей оказалось столовой. Он взял перловку с бараньей котлетой, оладьи с джемом и бутылку пива. Занял место, откупорил бутылку, налил в стакан, хлебнул мутного пива... Ел, отгоняя мух. Разве это пиво. Но пошел и прикупил еще бутылку и с бутылкой пива прогулялся по Бийску, вышел к драмтеатру, пединституту, потом на берегу быстрой довольно-таки Бии выпил пиво, закурил, хмелея. На другом, низменном берегу краснели сосновые боры. Он, прищуриваясь, затягивался сигаретой, остро разглядывал пейзаж. Послал окурок щелчком в воду.
Нет, это еще не то. Дальше. Осталась ночь в гостинице. Он усмехнулся. Все ерунда и глупости.
В номере она была одна. Уже одетая, причесавшаяся, умывшаяся, с подведенными глазами... Ну да, в номер могут подселить мужиков.
— Я принес булочек, сока, консервы. Будешь? Или пойдешь в столовую? Могу показать... Ладно, не говори, напиши вот на этом клочке. В молчании есть сила. Об этом все мудрецы толкуют. То есть пишут. Но это разные вещи: сказать или написать. Или нет. По-моему, одно и то же. А коли так, то что толку молчать? Ведь и думаем мы словами. Только произносим их быстрее. Они как свет, запах. То есть мысли. Значит, что? Запах цветов — это их мысли. Луч — мысль солнца. Человек топчется в гуще мыслей и ничего не может понять.
Она внимательно посмотрела на него поверх книжки.
— Что это ты читаешь? Анатомический атлас? Или... что за мура? Где это ты нашла?.. Вообще, у настоящего путешественника должна быть походная библиотека. Я однажды видел отличный вариант походной библиотеки. Некоторые названия на старых добротных переплетах помню до сих пор. Ну... например: ИЗ ЛИРИКИ МИЛАРЕЙБЫ. Или: ЗЕМНОЕ ЭХО СОЛНЕЧНЫХ БУРЬ. Еще: О ИСПРАВНОМ УСМАТРИВАНИИ ВЕТРОВ. ОКАГАМИ, ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО; опись столбцов сибирского архива; редкие металлы; грамматика бурят-монгольского письменного языка; миниатюры кашмирских рукописей; стихи на пальмовых листьях; образование империи Чингиз-хана. Хозяйка библиотеки была дочь известного в Глинске, да и за пределами ученого, Лина Георгиевна. По-девичьи стройная, узкая, с благородным лицом, с бирюзовыми бусами и серебряными кольцами на хрупких, прохладных пальцах... Ты ведь не читаешь, а слушаешь меня. И тебя так и подмывает спросить о Лине Георгиевне.
— Ты пьян? — осведомилась она, вздергивая золотистые брови.
— Кто автор-то, я не разглядел. Наверняка английская леди-домохозяйка.
Она нахмурилась, но уже где-то в глубине разразилась улыбка, и акустическая волна выплеснулась наружу. Он тут же, осмелев, наклонился и поцеловал ее.
— Точно, пьян, — сказала она. — Где в такую рань нашел выпивку?
— Какая выпивка.
— А что?
— Ослиная моча.
— Без подробностей.
— Ну, местное пиво, как его еще назвать? А кто тебе подарил, пока я ходил, книжку о любви?
— В тумбочке нашла. Надо же чем-то скрасить этот день.
— Поразительно. То тебе первоклассная живопись фальшива, то фальшивка красна.
— Я должна сказать что-нибудь такое умное?
— Можешь просто вздернуть брови. Или улыбнуться.
— Ты думаешь, приятна эта роль растения?
— Улыбкой, как музыкой, можно сказать больше... Ты вдруг навела на мысль написать улыбающийся цветок. Или поющее дерево... Но я не карикатурист. И не символист. Не могу насиловать природу. Но я боюсь превратиться в фотографа. Путь живописи сейчас узок.
— Как игольное ушко?
— Может быть.
— Ну, тогда походная библиотека только помешала бы.
Он улыбнулся:
— А! ты о дочке ученого в кольцах и бусах?
— О походной библиотеке. Знаешь, я уже это где-то слышала. Походное снаряжение, закопченный чайник, трубка, библиотека. Кого-то это напоминает... Печорина?
— Максима Максимыча. По крайней мере — что касается трубки и чайника.
— А походная библиотека?
— Ну, вообще-то это обычные вещи путешественников... Нет! библиотека, конечно, ни к чему. Ведь это своего рода эксперимент. Хочется все услышать, увидеть и почувствовать самому, а не через десятые руки. О чем только не говорят. Самый воздух в городе искажен всевозможной информацией. Надоели посредники. Я сам буду слушать. И видеть.
— Что ты хочешь увидеть?
— О некоторых вещах бесполезно говорить.
— Но... знаешь, все равно ты уже испорчен.
— Мм?
— Информацией, как ты говоришь. Искажен. Я не права?
— Но мне кажется, я еще не весь искалечен. Что-то неподдельное, изначальное еще где-то таится.
— В самом тебе?
— Ну... да.
— Тогда, — сказала она, — стоило ли ехать сюда, где кончаются железные дороги... Не смотри на меня как Шерлок Холмс!
— Да просто это подозрительно похоже на аргументы Зимборова.
— Иногда и мне свойственна логика.
— А этого мало!
Она подняла брови:
— Вот как?
— Да. И ты убедишься в этом, когда мы заживем там, в доме из сосен, — стены оставим бревенчатыми, сосна излучает свет, даже в пасмурную погоду светло. Вообще там выращивают яблоки и что-то такое еще, чуть ли не абрикосы. Это место считается исключительным. Недаром туда всегда тянулись калики.
— Калеки?
— Калики перехожие, пилигримы, бегуны от царя и прогресса. А Зимборова мне жалко, он застрял на этой улочке. Гоняется за миражом. Сам рассказывал, как это с ним бывает. Ты знаешь эту улочку слева от собора? мощенную камнем, с садами и заборами с одной стороны и развалинами екатерининской кирпичной ограды с другой. Он туда вступает в полной уверенности, что наконец-то схватит то, что всегда там есть. Ему даже кажется, что его окутывает что-то, наэлектризованное облако — и сейчас от щелчков фотоаппарата молнии брызнут. И он проходит всю улочку насквозь и попадает на широкую и шумную Бэ Советскую — и ничего не происходит. И ничего не получается. И не получится. Он сетует на плохой аппарат. Ну да, аппарат не тот. И ничем его не заменишь. Если, конечно, не поймешь, в чем дело. Как понял я.


![Владимир Царицын - Зов Орианы. Книга первая. В паутине Экора. [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/101705/101705.jpg)