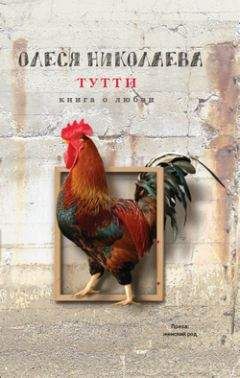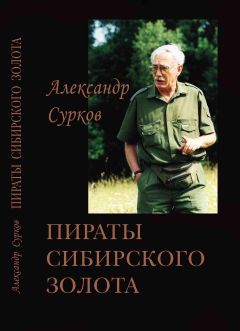Бабушка не одобряла маминого образа жизни – с нарядами, пирами, ресторанами и учила меня скромности:
– Хорошая у тебя кофточка, – говорила она, – скромненькая.
И вот мама, выросшая в этой аскетической бабушкиной скромности, в доме, где не было ничего лишнего, где стояла допотопная добротная тяжелая мебель, висели строгие шторы и полы были надраены вонючей старомодной мастикой на скипидаре, наблюдая ее каждодневные труды – ранние вставания на работу, размеренные будни и редкие праздничные церемонные застолья, возжелала иного – пиров, фейерверков, ярких красок, сочных фруктов, безумных нарядов. Она даже пошла играть в какой-то народный театр, и у меня сохранилась фотография, с которой она глядит этакой сценической дивой. Якобы ее там даже заметил какой-то известный режиссер и приглашал играть на профессиональной сцене. Сейчас я не могу это уточнить для полной достоверности, но вполне в это верю. А когда она заканчивала иняз с немецким языком, к ней подкатили какие-то дядьки то ли из КГБ, то ли из разведки и предложили ей поехать в Германию и открыть там нечто вроде салона для русских эмигрантов, чтобы собирать о них сведения. Маме поначалу эта идея очень понравилась, поскольку она услышала лишь слова «Германия», «салон» и «русские эмигранты». Но бабушка, узнав от нее эту историю, помертвела: «Ты с ума сошла! Кем же ты там будешь? Доносчицей!» И мама тут же забрала документы из института, бросила народный театр и укатила разъездным корреспондентом «Комсомолки» на Крайний Север.
Так вот, жизнь свою мама устраивала шумно и бурно – в пику бабушке с ее порядком, воздержанием, скромностью и незаметностью. Вот и я сопротивлялась изо всех сил этим материнским слепым природным силам, этому культу бурно цветущей сиюминутной жизни, просто – жизни, опьяненной самой собой. Для мамы она состояла в самом этом эмоциональном переживании, в напряжении всех чувств, в ликовании, в негодовании, в словах и жестах, в динамичных картинках и драматических сценках, в столкновениях и отталкиваниях, в игре воображения, в общении с другими людьми, с живыми тварями, растениями, рыбами, птицами и даже ползучими гадами.
Но на самом деле, и я это болезненно ощущала, это было и море разливанное прущего отовсюду бессознательного, захлестывавшего мой хрупкий кораблик, грозившего сломать его высокие мачты и опрокинуть в свою пучину, и затянуть. Это была чутко дремлющая до поры буря, в завихрениях которой водились демоны, плясали призраки и гнездилась роковая деменция. А под всем этим мраком психического бурлили вовсе уж непостижимые законы биологической жизни, подрагивали, что-то жадно всасывая в себя, клеточные оболочки, вибрировали чуткие мембраны и диафрагмы, пульсируя, вырабатывались ферменты, шел метаболизм липидов и белков, слал свои сигналы хитроумный гипотоламус, сердце, мощно стуча, качало денно и нощно, словно насос, тоннами горячую кровь, перегоняло ее по нежным артериям туда-сюда, плясали огнеметные гормоны, надиктовывая свой язык, от высокой луны начинало ломить в турецком седле, и хрусталик вбирал в себя весь лучевой спектр, из которого потом причудливо складывались цветные сны.
А еще ниже, там, где уже почти геенские бездны бессловесного, верховодила и диктовала свои условия химия, щелочи ее, кислоты, соли и основания, хитрая валентность, к которой причастен еще со школьных времен какой-то ухватистый и пронырливый ион аммония, кальций вымывался из костей и застревал почему-то в почках, высвечивалась вообще чуть ли не вся таблица Менделеева – натрий, калий, магний, фосфор; то вдруг непонятно как выделялись какие-то «энзимы удовольствия», то известь почему-то забивала сосуды, и образовывал бляшки неведомый холестерин, и где-то здесь брал свои истоки папин диабет. Вот что такое на самом деле была эта «сиюминутная» жизнь! Прикрытая тонкой соломкой пропасть.
Всему этому надо было противопоставить Лицо. Подчинить Личности эту темную фабрику, этот подпольный завод… «А ну, – скомандовать, – все по местам!»
Именно в силу этого сопротивления я делалась каким-то метафизическим трудоголиком, и всякий труд, который не был сопряжен у меня с литературным, казался праздным дуракавалянием. Словно это корпенье над бумагой спасало меня от хищного зева природы со всем ее хаосом, который надо было загнать в слово, гармонизировать и преобразить в нем. О, как я стремилась к своему ночному кухонному столу и, наконец усаживаясь за него, словно сразу переходила в другую реальность, которая ограждала меня от бессловесных бурь, подземных толчков и вулканических извержений. Да ну этого Фрейда, я презираю его толкования, все это какая-то ложная этимология, шизофрения. Так ко мне пристал на одной конференции один филолог и стал доказывать, что слово «человек» произошло от двух – «чело», это потому что человек думает, и «век», это потому что он живет во времени.
Мне всегда казалось, что у меня отсутствует какой-то важный рецептор, даже и не рецептор – дело не в восприятии, а какой-то жизненно важный орган осмысления жизни, и я пыталась его компенсировать словесным усилием, которое было сопряжено именно с письмом. То есть, чтобы что-то понять, мне надо было это назвать, чтобы назвать, надо было это описать, и я подчас мучалась, подыскивая это название, захлебываясь хаосом, пока и его не начинала поверять Логосом и именовать. Именно поэтому, когда я подолгу не писала, я внутренне надламывалась, мир смазывал свои черты, предметы размывали свои границы. Все плыло в каком-то душном мареве, не имея ни цели, ни достаточного основания, ни судьбы. Мелким сухим смехом похохатывала бессмыслица, и уныние с анемичным лицом и бесформенным ртом повторяло на все: «Ну и что?»
Тут для меня важно было и то, что мать моя была красноречива, как Цицерон, и прекрасно выражала себя в звучащем слове. Я же, напротив, была как-то искусственно косноязычна. Это приобретенное косноязычие имеет для меня довольно забавное объяснение. В десятом классе перед поступлением в Литинститут я брала уроки у замечательного учителя литературы Германа Андреева, который прославился потом как интеллектуал, и как-то мы давали с ним речевые характеристики героям «Войны и мира». И выяснилось, что все «положительные» герои – Наташа Ростова, Пьер Безухов, Платон Каратаев, Кутузов – говорят сбивчиво, синтаксически путано, как-то неправильно, косноязычно. А герои «отрицательные», малосимпатичные – Берг, Анатоль Курагин, Элен, князь Василий – изъясняются складно, четко, режут как по писаному. И это как-то так в меня запало, что я стала стыдиться говорить ловкими длинными сложноподчиненными предложениями – я их вдруг искусственно обрывала и не договаривала, запиналась, если вдруг получалось гладко, оставляла зазубрины…
А потом – и наш владыка тоже задал мне задачу. Мы сидели как-то раз с ним и рассказывали всякие истории. И вдруг он мне, прямо посреди моего рассказа, и говорит:
– Стоп! – и сделал паузу рукой. – «Я, я, я», – медленно и назидательно произнес он. – Продолжай.
То есть в том смысле, что я все время «якаю»: я, я, я…
Ну, и все это совершенно замутило мои речевые возможности. Мне было совсем непонятно, как можно обойтись без «я». Правда, мне знаком один архимандрит, бывший наместник большого монастыря, который называл себя «мы», но это порой создавало комические ситуации. Например.
Сам он втайне писал стихи, но признаться в этом ни за что не хотел, ему было неловко: мол, наместник, а занимается такими глупостями. И в то же время ему и интересно было о них поговорить, узнать чужое мнение. Поэтому он сказал мне, что стихи эти написал некий его знакомый, человек благочестивый, прихожанин, дал мне тетрадку, исписанную стихами, и назначил на следующий день встречу в беседке, где обычно монахи встречаются со своими родственниками.
– Мы будем вас ждать, – сказал он мне напоследок.
И я, разумеется, предполагала, что он будет там со своим прихожанином.
На следующий день, прочитав стихи, я явилась в назначенный час в беседку, где меня уже в одиночестве поджидал архимандрит Нафанаил.
– А мы уже здесь, – сказал он, благословляя меня.
– А где?.. – спросила я, оглядываясь по сторонам.
– Да здесь мы, – невозмутимо отвечает он, проводя обеими руками сверху вниз по своим бокам. – Слушаем вас внимательно.
Я опять беспокойно оглянулась.
– Мы полагаемся на ваш суд. Тут мне стало не по себе.
– Стихи-то хорошие, но вот форма чуть прихрамывает, рифма тоже… «уходя – меня» – нельзя так рифмовать.
Он достал блокнот и стал что-то записывать.
– Значит, так, вот что мы записали, проверяйте: подчистить форму, рифму подправить.
– Хотя, – уже с тоской сказала зачем-то я, – Фет рифмовал же в гениальном стихотворении «огня – уходя» и – ничего.
– Так, тогда про рифму вычеркиваем… Знаете что, мы тут в отпуск в Москву собираемся, может быть, заедем к вам, а вы нам что-то по методике стиха дадите, можно так?