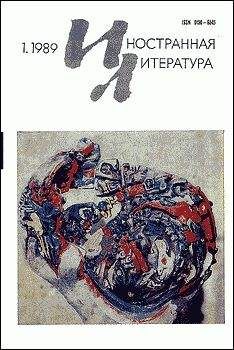Элизабет Бош даже и не догадывалась, до чего это все глубоко в нее запало. Не соблазнительные речи о чужих городах и странах, о кораллах и белых островах, нет, в нее глубоко запала печаль Якоба. И походка у него такая... «Пойдем домой». Пойдем, но куда же, куда?..
Женщина ринулась в комнату и выхватила у сына письма.
— Тебя это не касается! — крикнула она. — Поезжай в Дамаск, поезжай куда хочешь, но тебя это не касается.
Ханс еще ни разу не видел, чтобы мать до такой степени вышла из себя. Она вдруг показалась ему совсем чужой. Но и он тоже показался ей чужим. Он сидел перед ней, прищурив глаза, как в свое время щурил его отец, когда приходил в ярость и начинал браниться на чем свет стоит.
— Ты предаешь собственных детей, — сказал Ханс, — счастья это тебе не даст.
И он подумал, что Дамаск оказался несбыточной мечтой, как уже многое в его жизни.
— Счастья это тебе не даст, — повторил он и ушел.
Элизабет Бош стояла неподвижно, прижав стопку писем к груди. Нет у нее ни сына, ни дочери, ни внука. У нее есть только Якоб Ален, и Якоб сказал ей: «Пошли домой».
Ханс не явился в назначенное время к главному редактору, а вместо того поехал в школу, где работала его жена. Уроки у нее должны были как раз к этому времени закончиться.
Регина увидела, как он ждет у входа, и подбежала к нему.
— Как мило, что ты за мной заехал.
Но она сразу же поняла, что произошла какая-то неприятность. Пабло, мелькнуло у нее в голове, и она спросила про мальчика.
— С ним все в порядке, — ответил Ханс, — садись.
Он поехал по городу без цели, куда глаза глядят.
— С каких пор ты про это знаешь?
И поскольку Регина не поняла, о чем он спрашивает, уточнил:
— Ну, про мать и про этого, из Гамбурга.
— Я не придала этому особого значения.
— С каких пор?
— Я же тебе сказала, что не придала значения.
Теперь остается только глядеть на дорогу, думал про себя Ханс. Глядеть, тормозить, ехать дальше. Мимо вокзала, мимо Оперы, мимо музея.
— Она ведь совсем одна, — сказала Регина.
Ханс подумал: «И я тоже».
— А может, и нет, — сказал он.
— Что «может, и нет»?
Мотоциклист обогнал Ханса и подсек его. Волна ярости захлестнула Ханса, он засигналил. Все они одним миром мазаны, подумал он, что мать, что Маша, что Регина. Только о себе заботятся.
— Не я выгнал ее из Чехословакии, не я виноват, что погиб отец.
— Ну и?
— Никаких «и».
— Ты просто боишься.
— Бред.
— Что из-за нее накроется Дамаск.
— Вообще-то она живет не в безвоздушном пространстве.
— С тех пор как тебя решили послать за границу, ты постоянно чего-то боишься, ничего больше не пишешь, а если и пишешь, то трижды взвешиваешь каждое слово, чтобы не просочилось ни одной мысли, из-за которой у тебя могут быть неприятности. Боялся из-за Лондона, боялся из-за Стокгольма, теперь — из-за Дамаска.
— Нельзя сменить страну, как меняют белье, — сказал он, — не то…
И она подумала, что весь этот разговор не имеет смысла, он ее не понимает и не хочет понять.
Вокзал, Опера, музей, Ханс второй раз ехал по тому же кольцу. Он спохватился, когда увидел фонтан и концертный зал. «Мы и ездим как разговариваем, — подумал он, — все повторяется». Оба почувствовали усталость. Регина сунула руку к нему в карман, как раньше, в те времена, когда между ними все было хорошо, и мальчик еще не родился, и машины не было, а только две комнатушки под крышей в старом доме.
— Ты ведь тоже вроде бы хотела в Дамаск.
Разумеется, она хотела. Да и кто бы не захотел.
— Она этого не сделает, кто-кто, а она не сделает.
И Ханс договорил:
— Не предаст собственных детей.
Регина вытащила руку из его кармана. «Только не продолжай, — подумала она. — Я все это наизусть знаю: конфронтация и международное положение, и надо же считаться, и надо же принимать во внимание. Ты прав, но ведь есть на свете и любовь, и мечты, и приближение старости, и одиночество».
— Поменьше пафоса! — сказала она.
— Куда уж меньше.
Регина вдруг расхохоталась. Подумать только — мать и этот Якоб Ален в роли классового врага.
Ханс резко нажал на тормоз и остановил машину.
— У вас у всех в голове одни только синие чайки, чертовы синие чайки.
После этого Ханс выложил все, что Регина и без того уже не раз слышала, он будто выступал на собрании, а она этого терпеть не могла. Без уверток, подумала она. Новая интонация, подумала она. Она вышла из машины и ушла, так ничего и не ответив. Глядя вслед отъезжающей машине, она прямо затряслась от злобы. Да пропади он пропадом, этот Дамаск, пропади он пропадом.
По деревне прошел слух, что Элизабет Бош надумала уезжать окончательно и бесповоротно. Завелся у нее один такой из Гамбурга, Лаутенбахов приятель. Все деревенские новости сначала поступали к мяснику, а уж оттуда разносились по домам. Кто-то утверждал, будто бургомистру сверху приказали уволить эту женщину. А Ханса выставят из газеты, вот почему он недавно побывал у матери. Даже на улице было слышно, как он тогда орал. Раймельт знал про все эти пересуды, но не делал ничего, чтобы положить им конец. Если его напрямую спрашивали, он отвечал: «Дело хозяйское». Такая позиция отнюдь не облегчала жизни Элизабет. Лаутенбах со своей стороны отвечал, что его это не касается. Якоб Ален — никакой ему не друг, они просто обменивались марками. Разумеется, от него не укрылось, что между гамбуржцем и Элизабет Бош протянулась такая ниточка, но, в конце концов, люди и сами могли видеть, что женщина каждую неделю получает по бандероли и что вообще она стала какая-то не такая, расфуфыренная, туфли зеленые, губы накрашенные. В общем, не в его вкусе, сказать по правде, но он никому и не собирается навязывать свой вкус. Элизабет больше не показывалась на заседаниях юбилейного комитета. И это лишний раз доказывало, что она послала заявление в Берлин, на самый верх. Одни перестали с ней здороваться, другие, напротив, тайком подсовывали ей что-нибудь лакомое: отборный кусок вырезки, швейцарский сыр, земляничный конфитюр. Было доброе — было и злое, а Элизабет не хотелось ни того, ни другого. Она снова начала запираться у себя в квартире, выходила на улицу, только чтобы запастись самым необходимым, и тем подбрасывала дополнительное топливо в костер сплетен.
Бузина стояла в белом цвету. Хлеба уродились неплохие.
Ханс Бош сидел перед своим главным и витийствовал:
— Эней таскал своего отца у себя на спине. А мне приходится тащить свою мать.
— Вот уж не знал, что у тебя такие амбиции в области античной филологии, — перебил Рудольф, затем он встал, открыл окно, и они услышали скрежет проезжающего мимо трамвая. Рудольф снова сел, взял сигарету, вспомнил, что врач настоятельно советовал ему бросить курить, что каждую неделю он твердо решает последовать совету врача и что так оно будет продолжаться вплоть до... именно, вплоть до.
— Гамбург или Дамаск, — сказал Ханс, — такими случайностями полна жизнь, дорогой мой, какая уж там цепь причин и следствий, просто игра в карты, бессмыслица.
«До этого я бы и сам мог додуматься», — ответил про себя Рудольф, а взглянув на Ханса, увидел, что у того воспаленные веки и дрожит рука, когда он берет чашку кофе. Еще Рудольф подумал, что последние месяцы нелегко дались Хансу, а возможно, тут сыграли свою роль и семейные неприятности. Во всяком случае поведение Ханса наводило на подобную мысль.
— Ничего, скоро ты избавишься от всего этого, — сказал он Хансу.
— О том и речь.
И Ханс невольно улыбнулся, хотя у него болел живот и вообще он себя прегадко чувствовал с тех пор, как побывал в деревне и поссорился с Региной. Ханс уже несколько дней не был у себя дома, он попросил выделить ему комнату в общежитии шахты, благо, был лично знаком с начальником производства. Он хотел побыть один, он боялся изматывающих перебранок с Региной, которые ни к чему не приводили, кроме новых ссор. «Ты становишься банальным, мой дорогой». «Карьерист» — вот как надо толковать эти слова. А уж доведись ей увидеть его в кабинете у Рудольфа, она непременно сказала бы: «Самооговор». Да что Регина вообще смыслит в жизни? Она, со своими дурацкими идеалами! А он был просто обязан поставить Рудольфа в известность. Только и всего.
— Моя мать хочет выйти замуж и уехать к мужу в Гамбург, — сказал он и подумал: «Ну, сейчас пойдут расспросы, только держись».
Но Рудольф ничего не стал спрашивать. Он только подумал: «В этой газете я должен пройти решительно через все, вот и через это тоже».
— Уверяю тебя, я ничего об этом не знал,
И вдруг ему почудилось, будто не главный редактор сидит перед ним, а Регина, сидит, ядовито улыбается и говорит: «Это ж надо, какой пыл!»
— Вот, собственно, и все, — сказал он.
А Рудольф на это:
— Шел бы ты лучше домой.
Он, конечно, не мог знать, что Хансу некуда идти, кроме как на улицу или в унылую комнату в общежитии. Клуб журналистов внушал ему страх. Ибо там, как он опасался, к нему в любую минуту мог кто-нибудь подсесть и сказать: «А у твоей матери амуры с одним типом из Гамбурга». Выходя от главного, он еще подумал: «А почему я, собственно, должен считать себя виноватым, если моя мать надумала переехать из Саксонии в Гамбург?»