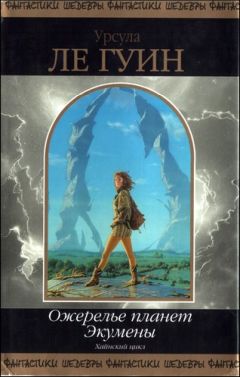А Неизвестный никому тоже удивлялся юбилейным новациям. «Представь, — говорит Имялишенному, — выхожу я из Пантелеймоновской церкви и вижу, что напротив, на том самом доме, где Гнедич сотворял русскую Илиаду, где Пушкин грезил египетскими ночами, повесили памятную доску: здесь, мол, жил да был некий корейский принц Джин. А про Пушкина и Гнедича — ни слова».
«Ты мне про Пушкина не говори, — бурчит приятель. — Он меня имени лишил, да еще посоветовал читать Лао-Цзы».
«Милое дело — читать Лао-Цзы! У него как раз в первом параграфе «Дао дэ цзина» говорится, что именуемое творит реальное бытие. Представь, что в египетской пустыне тыщу лет стоит пирамида».
Притча о пирамидеДавным-давно великий фараон Джосер построил в пустыне Ступенчатую пирамиду, и там после кончины поселился. За каменными стенами дул переменчивый ветер, и седые пески понемногу заносили строение. Со временем никто уже не помнил, не знал про усыпальницу — она незаметно потеряла имя и как бы перестала существовать.
И вот однажды в египетскую пустыню забредает некий ходок за три моря. Подходит к пирамиде, восторгается ее небесными величинами, мочится по привычке у подножия и ножом выцарапывает на священных камнях: «Вася».
Спустя годы другой путешественник, осматривая в армейский бинокль вечность, обнаруживает пирамиду, внимательно ее обследует и наталкивается на Васину надпись. «Доннер веттер! — изумляется. — Какое мощное сооружение построил здесь Вася!» Достает он карту египетской местности и пунктуально фиксирует расположение обнаруженного объекта, помечая его именем Васи.
Спустя еще годы является третий путешественник, находит по карте объект и, закурив беломоринку, прикидывает острым глазом, сколько времени понадобится разобрать эту Васину пирамиду, чтобы построить в намеченные сроки плотину. И с той поры нет в египетской пустыне никакой усыпальницы — только ветер дует над седыми песками.
«А ведь на самом деле, — завершает рассказчик, — это была не Васина пирамида, а гробница великого фараона Джосера — культурное наследие человечества».
«Это ты к чему?»
«А к тому, что если на Стене Девяти Драконов написано «куй», то это значит, что здесь всего-навсего побывал Вася. В Эдеме, среди райских кущ, Адам только тем и занимался, что давал имена, а Господь присматривал за тем, правильно ли называет он птиц небесных да зверей полевых. С библейских времен человек метит пространство бытия разными именами, как зверь полевой метит территорию своего постоянного обитания. Поэтому не удивительно, что на Стене Девяти Драконов начертано неприличное словечко. Хотя в данном случае этот Вася был недалек от истины: дракончики в Китае действительно называются «куями». Но он об этом не знал и не думал — он лишь машинально пометил территорию. Все эти графитти, все эти памятные доски с корейскими принцами являются только разметкой определенного пространства бытия, его сотворением и освоением. А дальше, через тыщу лет, кто-нибудь откопает на петербургских руинах кусок поименованного гранита и всерьез подумает, что здесь был славный восточный городок, в котором жил да был милый принц Джин. А потом найдет вот эту Стену Девяти Драконов, и окончательно убедится в существовании Джинограда. И только Васина надпись несколько смутит его, возбудив мысль о диком нашествии вандалов и готов».
«Ну ты, Хоттабыч, даешь».
Перед пламенным алтарем церковным поникли двое — молча, недвижно, смиренно. «Должно быть, калики перехожие, — думает юноша Бесплотных, замечая, как похожи эти двое друг на друга какой-то лесной косматостью, какой-то отстраненностью нищенской от мира сего. — Хотя откуда теперь калики? И главное — куда?»
Звучит первая песнь канона, повествуя, как встают стеною воды по правую и левую сторону, образуя сухой проход для беженцев египетских, а затем по мановению Господней руки смыкаются и ввергают в море колесницы и всадников всевоинства фараонова. «Вот и Петербург, — представляет юноша Бесплотных, — стоит между водяными стенами, а мы, как египетские беженцы, идем по сухому проходу и с отчаянием смотрим вдаль, на белый просвет, на прорубленное солнечными лучами окно в облаках, пока не взмахнет Господь рукою». И такой ясною становится эта картина городского движения между разомкнутых вод, что, выйдя на улицу, вглядывается юноша в облачные столпы над городом — не мелькнет ли огненная десница в высоте?
А те двое, между тем, тоже выходят из церкви и, как по команде, одновременно расходятся в разные стороны — один спешит на Литейный проспект, а другой назад, в Египет.
«Вот как!» — сожалеет юноша, что не может раздвоиться, и следует в былое, мерцающее за углом. Калика идет настороженно, как будто третьим глазом наблюдает беспардонного преследователя. И вдруг резко разворачивается, глядит в упор: «У меня ничего нет».
«А мне ничего и не надо, — отвечает юноша. — Мне просто интересно».
Отец Евлампий — съемщик убогого времени и пространства, обрамленного круглой печью и пыльным зарешеченным окном — говорит, что монашествует в миру. Каждый угол его петербургского измерения необычаен и неповторим. В одном углу, на деревянной полочке, стоят стоймя могучие резиновые спеченики — с красными рыбьими присосками, с двумя камушками яхонтами, вибрирующими как головастики. В другом углу светятся золотом иконы святых страстотерпцев, обретенные в окрестностях средиземноморья. В третьем углу висят потемневшие портреты вчерашних вождей в рабочих кепках и без, а над ними поблескивает цветная фотография Самого — он сидит китайским Буддою и смиренно лепит глиняный горшочек. А четвертый угол пуст — ни полочек, ни изображений. Только под потолком тонкая паутинка струится, занавешивая некую темную прореху.
Отец Евлампий собирает на стол вечерять — вареная картошка в мундире, нарезанный репчатый лук, окропленный горьковатым маслом, бутылка дешевого портвейна. «Это бормотуха, — предупреждает Евгений, взглянув на аляповатую этикетку. — Это вообще нельзя пить».
«Можно! Еще как можно! — посмеивается хозяин. — Вот я сейчас молитовку сотворю, и преобразится бормотуха в дивное виноградное вино».
Сосредоточившись, он ворожит над бутылкой, и вино действительно становится густо-сладким и терпким. Осторожно смакует юноша обворожительный напиток — благодать!
«А что, батюшка, — интересуется Евгений, — что за инсталляции по разным углам расставлены — там фаллосы, тут иконы, там вожди, тут пустота в паутине?»
«А это, — говорит отец Евлампий, — это духовный путь наш от начала до дня сего — от языческих спечеников к святым мученикам, от святых мучеников к железным мечникам. А ныне опять к идолам — спеченикам железных мечников. У мучеников, вестимо, спечеников нет — они бесплотные и бесполые, как ангелы. А в четвертом углу — наше будущее».
«Что за будущее такое? — удивляется Евгений. — Разве возможно такое будущее, да еще с прорехами? Человек не может жить, только и направляясь в пустой угол».
«Может! Еще как может! Я хотел было поместить там фигуру огнекрылого ангела, да раздумал — не пришло время».
«Как не пришло?»
«Так — не пришло. Рано еще ангелу прилетать туда, где его не видят. Вот ты не обнаружил, и возмущаешься. А чего возмущаться? Раз не увидел его изначально, так и при свечечке не разглядишь».
Отец Евлампий пьет, покряхтывает, Святым Духом закусывает. Вот уже и глазки замаслились любострастным блеском: «Ангелочек, — гузынит он протяжно. — Ангелочек!»
Вздрагивает юноша, как от ожога электрического: «А батюшка-то того! Ненастоящий батюшка-то!» И явственно видит он, как удлиняются влажные пальцы в осклизлые осьминожьи щупальца, как растягивается гнилозубая улыбка в огромную смердящую пасть, как проступает на рубахе острый гребень позвоночника, когда батюшка, встав из-за стола, затепляет свечечку в пустоте.
«Мазурики! — из пустоты чертенком выскакивает очкообразный нонконформист Эш и натыкается на Фуражкина. — Все разворовали! Абсолютно все!»
Фуражкин сочувствует безмолвно.
«Я хотел преподнести городу потрясающий презент. На его изготовление требовался сущий пустяк — всего ничего. А здесь, — нонконформист указует большим пальцем на вывеску Международного юбилейного фонда, а затем ловко преобразует большой палец в дулю, — здесь мне предлагают жуткую натуру вместо денег! Куда же деньги подевались? Мазурики разворовали!»
Очкообразный нонконформист Эш работает кривым зеркалом. В зеркале отражаются дождевые облака, архитектурные сооружения, люди. Последние не просто отражаются, но сначала исчезают в зеркале, как в глухой черной дыре, а потом возвращаются оттуда чудовищными карикатурами, над которыми следует потешаться, которых надобно уничтожать, как тараканов, поскольку они уже перестают быть людьми. Фуражкин, конечно, знал о зеркальных способностях нонконформиста, знал его пресловутую формулу: «Свобода — это я!», но почему-то старался быть с Эшем особенно вежливым и предупредительным, хотя тот и считал стоящую перед ним особь полнейшим ничтожеством.