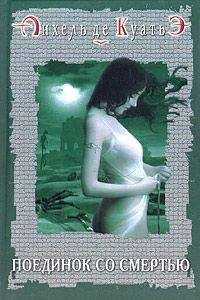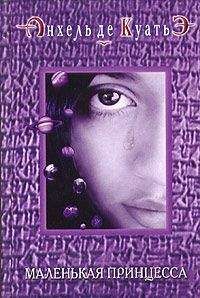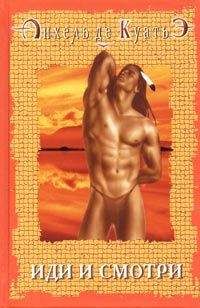Второй – сумасшедший адепт какой-то христианской секты. Звали его Миша. Бестолковый… Украл у родителей деньги, отложенные на машину, и отнес своему «супервайзеру» (это у них что-то вроде духовного наставника). Когда родители пропажу обнаружили, попытались получить деньги назад, но им их не вернули. И вот Мишины предки не долго думая написали на сына заявление – отправили его под суд, чтобы тот «проветрил мозги». Вроде как поставили в угол.
– Только в церкви я по-настоящему нужен. Бог отдал за меня Своего Сына, понимаешь? Сына Своего отдал за мои грехи, – тихим, бредовым голосом говорил Миша.
Он все время молился и пытался проповедовать в столярном цехе. Всем надоедал, его били. Но чем сильнее били, тем сильнее он приставал, чтобы опять быть битым.
– Все апостолы страдали. Это высший дар – за веру страдать, – говорил он с гордостью, глядя на меня заплывшими от синяков глазами.
Во что с ним играл Бог, я даже представить себе не могу. В дурака, наверное.
Ну вот не глупо устроен мир? Нет? Что эти двое сделали, чтобы их в тюрьме держать? Один родился в стране, в которой нет нормальной дорожной полиции, а другой – у таких родителей, которых нужно кастрировать еще до того, как они в состояние половой зрелости войдут.
И ведь во всем так. Во всем! Глупая, дурацкая жизнь!
Третий… Про третьего – Рустама – разговор особый. Небольшого роста, крепко сбитый, с бритой головой и свернутым набок носом. Он почти не разговаривал с нами. Как-то обмолвился, что боксер. Попался за незаконное хранение оружия. Гаишники остановили машину для досмотра, а у него – пистолет. Рустама прорабатывали серьезнее всего. То и дело возили на допросы в ФСБ. Кажется, подозревали в связях с террористами.
Я начал присматриваться к нему.
С «воли» ему все время передавали запрещенные вещи. У него даже был мобильный телефон. Правда, пользовался он им очень редко. Иногда ему звонили по ночам. Говорил он тогда на неизвестном мне языке. Потом оказалось, что на татарском.
Позже я понял, что Рустам тоже ко мне присматривается. За месяц мы не сказали друг другу больше десяти слов, но я чувствовал взгляд его маленьких черных глаз.
Наконец однажды он заговорил. Хоть обращался он к другому человеку, я понял, что слова его были на самом деле адресованы мне.
– Не важно, когда и от чего умрет человек, – говорил он. – Важно, как он прожил жизнь. Все умрут. От пули или от болезней – не имеет значения. Смерть – вопрос времени, а потому убийства не существует. Ты всего лишь приближаешь неизбежное. В убийстве нет жертвы. Если человек умирает молодым, он умирает с надеждой, что впереди его ждало все лучшее. А кто из сорокалетних может похвастаться, что его юношеская вера в лучшую жизнь сбылась? За их плечами только разочарования. Если человек умирает молодым – ему повезло. Счастливый человек умирает легко, а несчастный еще легче. Первый всего достиг, второй наконец-то нашел выход. Убийства не существует…
Ночью я не мог уснуть, все думал о словах Рустама. Для тех несчастных, рядом с которыми я провел последние месяцы, смерть была бы наилучшим выходом. Она спасла бы их от страданий. Она бы положила конец их жалкому, недостойному человека существованию.
Потом я стал думать о тех, кому «повезло». О тех, кому Бог выбросил «призовые кости». Разве они умеют радоваться своей жизни? Разве они знают ей цену? Нет, они считают, что «всего добились сами», «своим трудом», «своими мозгами». И им всегда мало!
Ни один человек теперь не помнит слова «достаточно»! Дома и машины должны быть больше, дороже, роскошнее. Женщины выше, дети умнее, жизнь длиннее! Они плачут и убиваются над своими морщинами, избытком жира, надвигающейся старостью. И страдание их по силе ничуть не меньше, чем у тех, кто заживо загнан под землю.
На следующий день я подошел к Рустаму. Он быстрыми отточенными движениями клал под пресс промазанные клеем листы фанеры.
– Убийства не существует, – произнес я как пароль.
Он некоторое время буравил меня своими маленькими глазками. Как шифр считывал. А потом спросил:
– Что надо?
– Ты ведь не просто боксер, – сказал я. – И пистолет у тебя в машине не случайно оказался, правда?
– Что надо? – повторил Рустам.
– Хочу умереть, – сказал я просто, как когда-то Олесе: «Я тебя люблю».
Так день, когда все началось, и день, когда все закончится, сошлись вместе. Рустам пожал плечами.
– Умрешь когда-нибудь… – ответил он с кривой усмешкой.
Я сглотнул. Ситуация была глупая. С чего я вообще взял, что он террорист? А если даже и так – вряд ли он станет со мной откровенничать. Вдруг я провокатор? «Утка», агент, приставленный к нему под видом заключенного.
– Извини.
У меня бешено колотилось сердце.
Больше мы не разговаривали.
– Это ты считаешь самым важным?.. – Данила удивленно выгнул брови. – Что есть еще люди, которые чужую жизнь ни в грош не ставят? Это? Но разве люди не сами обесценивают жизнь, когда говорят о ней так? Любая мысль – это идеология, а любая идеология – это инфекция. Если душа ослаблена страданием, она и заболевает. Ты можешь сказать: «Все мы скоро умрем» – и что? Думающий о смерти забывает о жизни.
– Не это самое важное, – сухо ответил Павел.
– Или, может быть, тебя возмущает, что справедливости в мире нет? А?.. Но справедливость не мир устанавливает, а люди. И то, что родители своего сына в тюрьму отправляют, это их поступок, а не мира, И то, что пьяные подростки разбиваются на машине, это ведь тоже не случайность. Это результат человеческих отношений – как случилось, что молодой человек не ощущает, что жизнь стоит того, чтобы ее беречь?..
– Нет, и не это самое важное…
– А что тогда? – развел руками Данила. – Что Бог играет в кости? Но, Павел, приглядись внимательно, это не Бог играет в кости, это люди играют в кости! Поставить все свое состояние на кон, проиграть, а потом винить в этом Бога – разве есть в этом логика?! Павел, ты…
– Нет, – оборвал тот.
– Ну а что тогда?
– Сейчас узнаешь…
Через три месяца состоялся суд. Мне дали полгода условно. Зачли четыре месяца, проведенные в КПЗ. Еще два мне предстояло ежедневно являться в районное отделение милиции. Отмечаться у инспектора.
Я оказался на свободе. И что?.. Огляделся по сторонам, сунул руки в карманы и… увидел маленький листочек бумаги, свернутый трубочкой.
«Если хочешь умереть, позвони по этому телефону…» И цифры.
Рустам!
Я бросился к ближайшему телефонному аппарату. Выклянчил у какой-то женщины монету. Стою в телефонной будке. Ладони вспотели. Я вытер их об джинсы. Снял трубку и… набрал номер Олеси. Совершенно случайно, сам того от себя не ожидая.
Мне ответил резкий, похожий на скрип ржавых ворот, голос ее матери:
– Алло!
Я тут же нажал на рычаг.
– Дурак… – сказал сам себе и бросил трубку.
Неожиданно захотелось увидеть Олесю. Ничего не говорить. Просто увидеть. Я обхватил руками голову.
«Неужели я все еще ее люблю?..» – эта мысль пронеслась как комета, заставив меня поежиться от внутреннего холода и тоски.
– Олеся, – прошептал я.
– Уехала она, – раздалось сзади.
У меня волосы встали дыбом. Я повернулся и увидел Киру.
– Ты?.. – я не верил своим глазам.
Откуда она узнала, что меня сегодня выпустят? И как она решилась прийти встречать меня после того, как продала мою квартиру? Я узнал об этом уже в тюрьме, когда выяснилось, что у меня больше нет прописки.
– Я, – односложно ответила Кира, затягиваясь сигаретный дымом и не глядя мне в глаза.
Она похудела настолько, что скуловые кости стали нависать над щеками. Волосы как пакля. Живой труп в грязной рваной одежде. Ощущение, что она только что с кем-то дралась, катаясь по земле.
– Чего надо? – спросил я и тут же пошел прочь.
– Встречаю вот, – ответила она, идя за мной следом. – А что, нельзя?
– Постыдилась бы хоть… – буркнул я, даже не оглянувшись.
– Ты по поводу квартиры, что ли? – безразлично спросила Кира.
– Ну хотя бы…
– А что? – Кира прибавила шаг, чтобы идти со мной вровень. – Ты же помирать собирался, а зачем мертвому квартира?
– Ладно, оставим…
– Знаешь, это не я у тебя на руках подыхала и дозу выпрашивала, – вставила Кира. – А потом, у тебя еще матери квартира есть.
– То есть пожалела меня? Заботилась обо мне? Так понимать? А с чего бы это?..
Кира забежала вперед, заставив меня остановиться. Привстала на цыпочки, чтобы заглянуть мне в глаза, и проговорила:
– Это называется «люююбооовь», – своими тощими пальцами с почерневшими от грязи ногтями она нарисовала передо мной в воздухе сердечко.
Наверное, я должен был разозлиться на нее, как когда-то на Олесю. Потому что вся эта «люююбооовь» – у них в голове, и ко мне она не имеет ровным счетом никакого отношения. Олеся изображала всепрощающую «люююбооовь», Кира несколько месяцев старательно разыгрывала бунтарку. Они просто хотят, чтобы у них «это было». И это – не любовь. Я знаю точно.