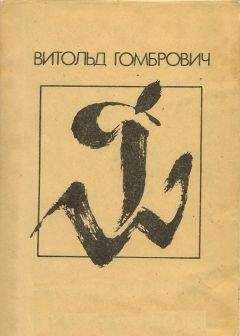— Клянусь тебе, днем он был без усов…
— Ты смеешься надо мной?
— Конрад! Обещаю тебе… Я с ума схожу… послушай, я должен уходить, мне нужно позаботиться об Эдуаре. Займись этим и верь мне!
— Хорошо. Но мне то что делать?
— Потяни за усы. Наверняка наклеенные.
— Ладно…
— Я буду все время о тебе думать… Удачи.
Самым неприятным для меня было то, что это дело оказалось пущенным на самотек. Вот всегда так, скучаешь до посинения, делать нечего, а тут, когда наконец что то происходит, нет свободного времени. Ну почему принято считать лучшими друзьями тех, кто впадает в депрессию в самое неподходящее время? В течение восьми лет ни один из близких мне людей не впадал в хандру, а тут Эдуар выбрал время, чтобы все испортить. Я грустно вздыхал… когда мне становилось не по себе, я пользовался новой тактикой и думал о Конраде. Помогать, любить ближних. Я также думал о Христе. Ему то было проще, тогда все носили бороды.
V
Мне пришлось как следует попотеть, чтобы внушить Эдуару, что было бы лучше встретиться не дома, а на нейтральной территории. Я был вынужден солгать и придумал предлог, что Конраду нужно повидаться с Миланом Кундерой. Разумеется, можно было привести и более правдоподобный предлог, но после бурных дебатов Эдуар согласился. По правде говоря, у него не оставалось выбора, поскольку я втайне пошел на шантаж, пользуясь Конрадом. Если Эдуар не согласится, я не могу дать ему гарантию, что буду по прежнему держать Конрада у себя. Тогда он спохватился, стал преувеличенно любезным, даже выразил надежду, что мы выпьем за доброе старое время. Повел меня в какое то невыразительное заведение под названием «Отверженные» на полпути между его и моим домом. Что то на редкость мрачное, там даже кошек не водилось. Мне стало любопытно, почему он выбрал именно это место; наше старое доброе время было достойно лучшего. Эдуар объяснил мне: не то чтобы он очень любил это место, но здесь есть свои правила. А хорошие правила — это входит в плоть и кровь. Я кивнул. Мы уселись недалеко от барной стойки, чтобы не доставлять лишних хлопот официанту. Переход от ноля к двум клиентам в математике данного бистро мог квалифицироваться как большой взрыв. Я хотел немедленно приступить к серьезной дискуссии, которую обещал Жозефине, но Эдуар подвинулся поближе ко мне, чтобы рассказать об официанте. Да, это отдельный сюжет. Я слушал. Никто не знал, как его зовут; он отличался редкой необщительностью и являл собой тот человеческий тип, который действует на других настолько угнетающе, что при виде его возникает желание напиться. Это и лежало в основе маркетинга. Едва появлялся официант, вы сразу же признавали свое поражение. Управляющий время от времени заглядывал в бистро и умолял подчиненного выдавить из себя улыбку, ну хотя бы по субботам, но тот в качестве довода ссылался на объем торгового оборота, а это говорило само за себя. В конце концов управляющий приказывал оставить все как есть и даже повышал ему зарплату, опасаясь, что тот перейдет к конкурентам и будет демонстрировать у них свою постную рожу. Этого типа многие хотели переманить к себе. Но он предпочитал оставаться на старом месте, боясь, что попадет в атмосферу хорошего настроения и тем самым испортит себе карьеру. Да, Виктор, уныние — это тоже карьера!
Что ж, это правда.
Я все время кивал. О чем он мне рассказывает? Честно говоря, этот официант интересовал меня меньше всего, хотя, вероятно, все так и было на самом деле, поскольку я вливал в себя пиво кружку за кружкой, даже глазом не моргнув. Я боялся, что мне не хватит мужества перейти к разговору о Конраде. Я знал, что с мужеством у алкоголиков плоховато.
Отступление о Шуберте
Неожиданно официант, который, по словам Эдуара, вообще ни с кем не разговаривал, произнес длиннющий монолог — целую речь, примерно следующего содержания. Его звали Шуберт, ему надоело постоянно делать кислую физиономию, и он решил нацепить значок, где было написано его имя. Он устал оттого, что нормальные отношения с людьми не складываются. В баре он выслуживался перед туго набитыми кошельками, которым приспичило излить душу. В обычной жизни, когда он улыбался, люди косо поглядывали на него. Он винил в этом себя: значит, его улыбка была слишком искусственной, слишком фальшивой. Постепенно, привыкнув ходить весь день с недовольной миной, он потерял все навыки общения с людьми. С тех пор как он в последний раз обменялся с девушкой телефонами, бог весть сколько бутылок было выпито. Запах женских духов утром, по пробуждении, казался ему кадром из черно белого фильма. И одному богу известно, мечтал ли Шуберт о девушках. Ему казалось, что нет ничего прекраснее, чем этот дар природы, раскинувший в неге тело. Ему хотелось целовать ей ноги, говорить, что жизнь удивительна, по идиотски хихикать. Он жалким образом пытался подкатиться к смазливым буржуазным дамочкам на выходе с концерта, предъявляя им удостоверение личности как доказательство его любви к искусству, но, увы, нынче это уже не котировалось. Гораздо лучше быть красивым парнем, чем потомком Шуберта. Но даже если какая то рыбешка и проявляла к нему интерес, при слове «бармен» она исчезала. Он явно принадлежал к тем мужикам, которым нечего предложить. Любовь ведь ужасно меркантильна, любят лишь добавленную стоимость. А с его внешностью впору было не создавать, а разбивать семьи.
Однажды в самолете (он клялся, что это правда) большинство пассажиров выступило с петицией против него, было единогласно принято решение снять его с рейса перед самым взлетом. Бедняги жутко испугались, что он взорвет самолет. Самое ужасное, что все те, кто не пожелал любоваться его физиономией, тем самым спасли ему жизнь, потому что самолет рухнул в Индийский океан. При подписании петиции ни одному из пассажиров не пришло в голову, что прадядя этого изгоя с 1828 года покоится в непосредственной близости к Господу.
Затем Шуберт замолчал. Радиомолчание. Я хотел сделать какой то жест, дать ему понять, что все уладится, но не мог же я заниматься всем одновременно. В моей повестке дня значился Эдуар. Да и меня самого тоже нельзя было причислить к счастливейшим из людей. В конечном итоге мы все трое страдали. Вскочив на стол, я крикнул:
— Тереза!!! — уселся с жалким видом, а потом признался: — Мне кажется, я дошел до ручки…
— Я тоже, — добавил Эдуар.
Тогда Шуберт подошел к нам, чтобы изложить одну из своих теорий:
— Когда алкоголики собираются вместе, они нейтрализуют друг друга. Двое надравшихся в стельку производят впечатление трезвых. Да, господа, алкоголики взаимонейтрализуются. Как минус на минус.
Его теория согрела нам душу, оставалось только уверовать в нее. Главным образом для того, чтобы выпить еще. Шуберт закрыл бар, и мы втроем принялись поднимать тонус. Я стал блевать первым, а Шуберт, до чего милый, процитировал старую германо ирландскую пословицу, в которой говорится, что лучший из всех блюет первым. В этой пословице заключался дидактический смысл оправдания жалкого слабака. Я никогда не смогу до конца отблагодарить его. Сразу после этих слов Эдуар выдал свою порцию блевотины. Мы сидели на корточках каждый над своей лужицей, и, если мне не изменяет память, я невнятно излагал мысль о том, что пришел сюда, чтобы помочь ему, моему блюющему другу. Я с удивлением отметил разницу в продуктах нашей жизнедеятельности, продиктованной покаянием. Мне стало казаться, что вся наша индивидуальность заключена в рвотных массах. Мои были жидкие, не перенасыщенные, тогда как у Эдуара они кишели хаотически рассеянными кусочками пищи. Бедняга, он выглядел таким издерганным. Шуберт нашел завалявшуюся где то таблетку аспирина и бросил ее в бокал с шампанским (алкоголь у него в крови уже достиг того уровня, когда забываешь, что существует обычная вода). Поднялся столб пузырьков, который мы с Эдуаом поделили на двоих, получив от этого массу удовольствия. Чуть позже мы выпустили наружу эти почти мыльные пузыри в виде частой, но прерывистой икоты; лопаясь, они яростно атаковали по периметру орган обоняния. Но Шуберт не отступил. На рассвете, как раз перед тем, когда розовый свет бледнеет, превращаясь в белый, мы обнялись, пообещав друг другу встретиться снова. Уже на пороге мой взгляд вдруг привлекла странная табличка, висевшая в дальнем конце бара:
Здесь никогда не бывал Эрнест Хемингуэй.
На улице были только мы, двое пьянчуг. В конце концов, Эдуар, в общем то, меня не обманул. Это действительно напоминало добрые старые времена. От ледяного воздуха мы протрезвели или, во всяком случае, оживились. Мною овладела меланхолия (наша глупая юность, нелепые надежды). Передо мной был выбор, который всегда приходится в таких случаях: предаваться грусти или ловить такси. Я предпочел ностальгическую прогулку. Все вызывало у меня слезы. Я напряженно думал о Конраде, наверное, он, лапочка, сейчас сладко спит. Что касается Терезы, я даже не знал, что и думать. Мои чувства, видения и желания были блужданиями по лабиринту. Эдуар нежно склонил голову мне на плечо. После ночи беспрерывных возлияний он успокоился. Его печень подавала сигналы. Я должен был помочь ему любой ценой, я поддерживал его, пока он осуществлял последние выбросы собственной желчи. Я также хлопал его по спине, чтобы покончить с этим, — так бьют по донышку бутылки с кетчупом. День еще полностью не вступил в свои права, ночь удерживала его, как удерживают любовника. Довольно метафор! Я объяснил другу, насколько я обеспокоен его делами. Он выглядел удивленным. Тогда я подробно рассказал о произошедших с ним переменах. Мне кажется, он не осознавал, какому подвергается риску: еще немного, и он лишится семьи и работы. Странно, до какой степени можно заблуждаться, пока кто то посторонний не укажет тебе на это. Знание высвечивает ошибки. Казалось, он не узнавал себя в моем рассказе. Он схватился за голову: