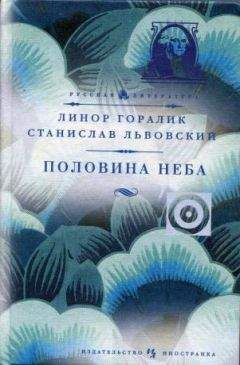Gatehouse Drive, Waltham, MA
Privet.
Sentiabr' — prekrasnoe vremia. Horosho, chto vse poluchaetsia. Dumaiu, chto vpolne eshe mozhno budet kupat'sia, tut teplo. Da, izvini, chto latinica, eto ia s raboty. Chitat'sia kirillica chitaetsia, a vot pisat' — nikak. Tut vse po-prezhnemu, Martin ves' v kakoy-to shinshille s vospaleniem legkih, ee nuzhno kolot' special'noy malen'koy igolkoy, special'nymi shinshillovymi antibiotikami. Ee hoziaeva — studenty iz MIT, para, ona u nih v komnate zhivet, oni postavili kletku na okno — i vse, pnevmoniia. Privoziat ee k Martinu v kliniku kazhdyy den' i rasskazyvaiut, chto ona shepchet v bredu. Sumasshedshiy dom. On smeetsia, no ya podozrevayu, deystvitel'no perezhivaet. Lizka hodit v shkolu, kazhetsia, dovol'na, no na moy vkus, oni ee nedostatochno zagruzhaiut, ona ne chuvstvuet challenge.
Rabota kak-to proishodit, ne skazat', chtoby ee bylo mnogo, no plotnoe raspisanie i zakazchik popalsia ochen' kapriznyy. Ia-to nichego, a vot shef moy, kotoryj kitaec, vse vremia ezdit na peregovory i sobralsia, kazhetsia, na menia perevalit' chast' svoey raboty. Ia, ty znaesh', ne prisposoblena s bumazhkami kopat'sia — eto u vas tam nichego takogo net (uzh u tebia osobenno), a tut kakie-to beskonechnye timesheets, raspredelenie obiazannostey — hotia, vrode, v gruppe tri cheloveka i neponiatno, otkuda takoe kolichestvo otchetnosti beretsia. O tom, komu eto vse nuzhno, ia predpochitaiu voobshe ne dumat'.
Vchera Martin rasskazyval mne pro pnevmoniiu, a ia vspominala, kak v detstve bolela lozhnym krupom — dolgo, eto togda ploho umeli lechit', v obshem, ia valialas' nedeliu s temperaturoy, priezzhala neotlozhka, chto-to takoe mne kololi, tozhe belich'i, nebos', antibiotki, otkuda u nih chelovecheskie. I kogda ia uzhe vykarabkalas' nemnogo, mama mne rasskazala, kak ia ee v odnu iz nochey pozvala. Ona prishla, govorit, — a ia lezhu, otkinuv odeialo — nu, let shest' mne bylo, — i pokazyvaiu na eto mesto, otkuda rebra vniz rashodiatsia — i ono nemnogo pul'siruet. A ia govoriu: «Vot zdes' my postavim hrustal'nyy domik, chtoby bylo vidno, kak rabotaet serdce». A potom eshe boltaiu. I ona ne srazu soobrazila, chto eto ia v bredu. Shinshilla ia, v obshem. Boltaiu ne po delu.
Po delu tak: esli ty poedesh' iz DC, to mozhno libo arendovat' mashinu, libo poehat' Greyhound'om — eto chasov vosem'. Ty skazhi, mashinu ia mogu zabronirovat' zaranee. Pozvoni na cell, kogda budesh' pod'ezzhat', ia tebe dam podrobnye ukazaniia. Esli na avtobuse, to on tebia privezet na South Station, pozvoni ottuda, ia pod'edu za toboy, eto bystro.
Priezzhay skoree.
Love,
Masha
Это и был сад земной, апрельский Крым, весь в цветах, в свежей зелени, а в Москве, тем временем ещё по ночам заморозки, и как бы не побило слишком ранний яблоневый цвет, может статься, не дождёмся ни штрифеля со странным вкусом, ни рассыпающегося белого налива, ни мелких твёрдых яблочек неизвестного рода-племени. Но это там, к северу, к северо-западу. Тут море, — специально для нас, победителей областных, республиканских и краевых олимпиад по всем возможным школьным предметам, — солнце, цветы, редкие облака над холмами и деревянные домики. Пятое питание: кефир с булочками на ночь, пионерский лагерь «Орлёнок», две недели без уроков, домашних заданий и холода, после долгой московской зимы.
Я быстро свёл знакомство с Наташей, фотографиней, — то есть, руководительницей фотокружка, — дамой лет, как мне тогда казалось, сорока, а теперь я думаю, что, наверное, от силы двадцати с небольшим. Она позволяла мне подолгу засиживаться в тёмной комнате, нарушать правила распорядка, мотивируя это тем, что-де, дневной свет всё равно просачивается через щели, фотографу необходима ночь. Видимо, я нравился ей — в большинстве своем юные физики, химики и математики к фотографии особого интереса не проявляли, но и не то чтобы совсем оставляли Наташу в покое. Пара человек приехала с фотоаппаратами, некоторые умники любили прийти на занятие и изводить ее вопросами о процессах и составах. Я же вел себя смирно, и она была благодарна мне за это.
Вожатая отряда Марина, будущий юрист, прокурор, морщилась, но победители олимпиад в целом хлопот доставляли не то, чтобы много, оставалось время и на флирт со вторым вожатым, Валерой, и на ночные шашлыки с педагогическим составом. Иногда туда убегала и Наташа, оставляя нас одних в ночи колдовать над метол-гидрохиноновым проявителем и фотобумагой «Бромпортрет», — венгерской «Forte» в «Орлёнке», конечно, не водилось. «Нас» — это меня и Таню, мою ровесницу, юного историка. Она, киевлянка, дошла до всесоюзной олимпиады, где её на полкорпуса обошёл отдыхавший с нами же строгий мальчик Слава, в будущем известный политолог, автор книги «Империя и модернизация», — книгу в английском переводе я увижу через много лет на полке то ли Barnes&Noble, то ли Asia Books — и вспомню эту историю благодаря редкой, ни на что не похожей Славкиной фамилии.
Теперь мне кажется, что фотография Тане вовсе не была интересна, а был интересен ей, скорее, я. Ну и возможность нарушать распорядок. Я чувствовал это, но все равно подолгу рассказывал ей о псевдосоляризации и композиции кадра. Она покорно слушала и даже, обзаведясь к тринадцати годам определённой женской мудростью, задавала вопросы, стараясь садиться ко мне поближе и водя пальцем над фотографиями (дотрагиваться до бумаги я ее быстро отучил). Я жалел, что не мог показать ей Картье-Брессона и фотографии Рима, сделанные Джиной Лоллобриджидой — оба альбома можно было брать в читальном зале районной библиотеки, в Москве, — я так и делал, как минимум дважды в неделю. Как мог, я пересказывал ей содержание фотографий. Безнадёжное это занятие натренировало во мне способность писать «изложения по картинам», за которые я неизменно получал оценку 5/4, - пара необходимых запятых каждый раз закатывалась куда-то под парту, — и не представляю себе, какие уж там образы складывались у Тани в голове, да и слышала ли она хоть что-нибудь. Я и сам иногда слушал свой голос как чужой, потому что больше всего меня интересовало, как к вечеру от прохлады встают дыбом волоски на Таниной руке и как в свете красного фонаря от ее не слишком складного девчоночьего тела остается только абрис, неожиданно женский, с какими-то изгибами и провалами, по которым гладко скользило мое сердце.
Марина постоянно подшучивала над нами, дразнила «женихом и невестой», я же угрожал ей, что если она будет делать это при всех, я снова с ней заговорю при всех о Солженицыне. Это я однажды уже проделал — не чуя плохого, совершенно случайно, просто к слову пришлось. Марина несколько побледнела и попыталась закруглить разговор, но я не унимался. Тогда она вытащила меня на веранду корпуса и стала так шипеть, что я немедленно, не пытаясь протестовать, заткнулся. Зато против «жениха и невесты» у меня теперь имелся действенный приём, — хотя один раз с той же Мариной неожиданно состоялся у нас разговор по душам, должно быть, сильно тронувший ее и несколько просветивший меня в вопросах женской психологии.
Так вот, сад земной, апрельское утро, после завтрака я сидел на скамеечке и читал по-английски «Алису в стране чудес», понимая, конечно, примерно половину, но упорствуя. Кроме всего прочего, меня сильно подгоняло соображение, что автор был математиком и фотографом. Я уже успел рассказать Тане историю о том, как английская королева, придя в восторг от приключений маленькой девочки, попросила принести ей остальные книги того же автора — и получила огромную стопку монографий. «Получите, называется. Надо было математику учить, Ваше Величество,» — говорил я, а Таня ахала и, заметим, в ответ не заваливала меня историческими фактами касательно королевы, наверняка хорошо известными ей, юному историку. Женская мудрость, именно. Прямо над головой у меня висел громкоговоритель — они везде висели, считалось, видимо, что без постоянного звукового фона дети заскучают и начнут думать о чём-нибудь неправильном. По громкоговорителю трубили подъём и объявляли скорбным голосом отбой, передавали новости и, — как правило — музыку. Десятичасовой выпуск новостей начался со слов «Чернобыльская АЭС», «четвертый энергоблок», «опровергает», через плохой шипящий динамик было не разобрать, да, в общем, не особенно и хотелось, я застрял в середине главы, пытаясь понять какую-то очередную шутку, основанную на игре слов, ни одного из которых я не знал, а словаря под рукой не было.
— Марк, Марк, — Таня ко мне бежала по дорожке от корпуса, — Марик! Ты слышал??
— Что такое, Танька, что слышал?
— Авария там, авария на атомной станции, в Чернобыле, это же близко к Киеву, а я не могу своим дозвониться.
— Подожди, а ты расслышала, что по радио говорили?
— Они говорят, ничего страшного, а больше я ничего не понимаю. Какие-то замедлители вынули по ошибке, это что вообще?
Я знал что такое замедлители, идея их вынуть из реактора мне не нравилась. С другой стороны, было непонятно, как это можно сделать по ошибке. Она взяла меня за руку и смотрела выжидательно, свежая царапина на плече наливалась розовым, я совершенно не представлял себе, что делать, но все-таки сказал:
— Так, хорошо, пойдём попробуем позвонить ещё раз, — и она пошла, так и не выпуская моей руки, и к телефонам-автоматам, возле которых уже стояли пять-шесть человек киевлян и пара особо нервных девочек из других городов, пришедших на всякий случай, — и так, за руку, мы и простояли полчаса, пока телефонистка не дала нам Киев, и никто не сказал нам про жениха и невесту, ни слова.
Таня закричала в трубку: «Папочка, папочка!», я смотрел на солнце, ладонь была потной и горячей, я чувствовал себя совершенно удивительным образом: что-то очень мужское было в том, чтобы опекать не привычную Машку и не Лелю, двоюродную сестру, с которой мы ездили в пионерские лагеря каждое лето, а совсем чужую девочку, прибежавшую ко мне за помощью, когда ей нужно было на кого-нибудь опереться. Я спрятал ладонь в карман, Таня ссутулилась над трубкой, и сквозь желтый трикотаж футболки проступили завязочки от купального лифа и крупные, круглые позвонки. Из будки она вышла успокоенной, папа сказал, что ничего не происходит, совершенно ничего страшного, тепло, солнце, всё в порядке, на майские они с мамой собираются на дачу сажать картошку и чтобы она не беспокоилась и отдыхала себе. Через месяц про эту дачную киевскую картошку уже ходили легенды и анекдоты — как хохол себе в картофелине дом построил, как все клубни покрылись чешуей, как поевшие ее свиньи слепли или рожали поросят с шестью ногами, — но тогда мы успокоились себе — и успокоились, и громкоговоритель хрипел над нами, что ничего особенного, жертв нет, и думать, следовательно, было не о чем.