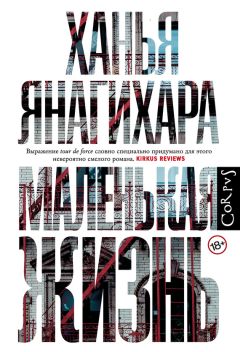Он воображал, что почти влюблен в Виллема, а иногда и в Джуда, а на работе порой не мог отвести взгляд от Эдуарда. Но потом он ловил взгляд Доминика Чуна, тоже устремленный на Эдуарда, и это его отрезвляло: меньше всего на свете он хотел стать таким, как Доминик, похотливо глядевший на сотрудника фирмы, в которой он никогда не станет партнером. Пару недель назад он заходил к Виллему и Джуду, чтобы сделать замеры и спроектировать им стеллаж, и когда Виллем наклонился, чтобы взять с дивана рулетку, его близость оказалась неожиданно невыносимой, и он убежал, соврав, что ему срочно надо в офис, хотя Виллем выбежал следом, окликая его.
Он действительно поехал в офис, не отвечал на эсэмэски Виллема, сидел перед компьютером, уставившись в монитор невидящим взглядом, и снова спрашивал себя, зачем он пошел работать в «Ратстар». К сожалению, ответ лежал на поверхности, и спрашивать нечего: он пошел работать в «Ратстар», чтобы произвести впечатление на родителей. На последнем курсе архитектурной школы Малкольм выбирал: он мог начать работать с двумя однокурсниками, Джейсоном Кимом и Сонал Марс, которые решили открыть свою компанию на деньги, унаследованные Сонал от бабушки с дедушкой, или пойти в «Ратстар».
— Ты шутишь, — сказал Джейсон, когда Малкольм объявил ему о своем решении. — Ты представляешь, какова жизнь рядового сотрудника в такой компании?
— Это прекрасная компания, — сказал он назидательно, с интонацией матери, и Джейсон закатил глаза. — Представь, какая строчка в резюме.
Но, уже произнося эти слова, он понимал (и, увы, боялся, что и Джейсон понимает): на самом деле это громкое имя нужно ему для того, чтобы родители могли щеголять им на вечеринках. Они и в самом деле произносили его с удовольствием. На каком-то обеде, который давали в честь клиента матери, Малкольм подслушал реплику отца: «Дочь у меня — редактор в „Фаррар, Страус и Жиру“, а сын работает архитектором в „Ратстаре“». Его собеседница одобрительно закудахтала, и Малкольм, который искал случая сказать отцу, что хочет бросить фирму, почувствовал, как внутри у него что-то оборвалось. В такие минуты он завидовал своим друзьям совершенно по тем же причинам, по каким когда-то их жалел: от них никто ничего не ждет, у них обычные семьи (или вовсе нет семьи), они сами ставят себе жизненные цели.
И что же? Теперь об одном проекте Джейсона и Сонал написал «Нью-Йорк», о другом — «Нью-Йорк таймс», а он все делает подсобную работу, как на первом курсе, пашет на двух претенциозных индюков в претенциозной фирме, названной в честь претенциозного стишка Энн Секстон, и получает за это гроши.
Он выбрал архитектурную школу по самой, кажется, неудачной причине: он любил здания. Это было вполне приемлемое увлечение, и когда он был маленький, родители всячески ему потакали: в путешествиях они вечно ходили на экскурсии, осматривали дома и архитектурные памятники. Даже в самом раннем детстве он рисовал воображаемые дома, возводил воображаемые конструкции; это было его утешением и прибежищем — все, что он не мог высказать и решить, можно было обратить в здание.
На самом деле вот чего он стыдился больше всего: не того, что у него не складывается с сексом, не того, что он недостаточно верен своей расе, не того, что он никак не может отделиться от родителей, зарабатывать деньги, стать самостоятельным человеком. Он стыдился того, что, когда они с коллегами сидели допоздна в офисе и все работали над проектами своей мечты, рисовали и планировали небывалые здания, он один ничего не делал. Он потерял способность выдумывать. Пока другие творили, он копировал: зарисовывал здания, виденные в путешествиях, здания, придуманные и построенные другими, здания, в которых он жил или побывал. Снова и снова он повторял то, что уже было создано, не внося изменений, просто копируя. Ему исполнилось двадцать восемь, воображение покинуло его, он всего лишь копировальщик.
Это было страшно. У Джей-Би есть его картины. У Джуда есть его работа, у Виллема тоже. Но что, если Малкольм никогда больше ничего не создаст? Он тосковал о тех годах, когда можно было просто сидеть у себя в комнате и рука летала над листом миллиметровки; еще далеко были трудные решения и выбор идентичности, пока что родители все решали за него, а он мог полностью сосредоточиться на чистой, тонкой линии, проведенной вдоль идеального лезвия линейки.
Джей-Би решил, что Новый год они встретят у Виллема и Джуда. Об этом он сообщил им на Рождество, которое они праздновали в три приема: в сочельник собирались у матери Джей-Би в Форт-Грине, на собственно рождественский ужин (по всем правилам, при костюме и галстуке) — у родителей Малкольма, а до этого совсем неформально обедали у теток Джей-Би. Они всегда следовали этому ритуалу — четыре года назад к нему прибавился День благодарения в Кеймбридже у Гарольда и Джулии, друзей Джуда, а вот Новый год оставался нераспределенным. В прошлом году — в первую уже не студенческую зиму — все они одновременно находились в одном и том же городе, но Новый год провели врозь, и все неудачно: Джей-Би на дурацкой вечеринке у Эзры, Малкольм в гостях у очередных родительских друзей, Виллема Финдлей определил в праздничную смену в «Ортолане», а Джуд валялся с гриппом на Лиспенард-стрит. Было решено на следующий год как следует все спланировать. Но они тянули и тянули, и вот уже декабрь, а плана все нет.
Поэтому никто не возражал, когда Джей-Би все решил за них (на этот раз, во всяком случае). Они прикинули, что человек двадцать пять разместят без труда, а сорок — с трудом. «Пусть будет сорок», — тут же сказал Джей-Би, как они и ожидали, но, вернувшись домой, они составили список всего из двадцати человек — только их друзей и друзей Малкольма, — ведь было заранее ясно, что Джей-Би пригласит больше народу, чем ему полагалось; он станет звать друзей, и друзей друзей, и совсем не друзей, и коллег, и барменов, и какого-нибудь продавца из магазина, и в конце концов в квартиру набьется столько народу, что даже при открытых настежь окнах ночной воздух не сможет развеять духоту и туман сигаретного дыма.
— И не делайте ничего замороченного, — предупредил Джей-Би, но Виллем с Малкольмом знали, что это предупреждение относится исключительно к Джуду, который был склонен все усложнять и целые ночи напролет печь гужеры, противень за противнем, хотя всех бы вполне устроила пицца, а также отдраивать все до блеска, хотя всем было бы наплевать, даже если бы пол покрылся слоем грязи, а раковина — плевками засохшего мыла и присохшими остатками завтрака.
Ночь перед вечеринкой выдалась теплой не по сезону, настолько теплой, что Виллем прошел пешком все две мили от «Ортолана», а дома его встретил такой густой масляный запах теста, сыра, фенхеля, что ему показалось, будто он и не уходил с работы. Он постоял немного на кухне, с легкой печалью поддевая маленькие вспухшие полукружья, которые остывали на противнях, оглядывая батареи пластиковых контейнеров — имбирное печенье, печенье с пряными травами, — и с той же печалью отметил, что Джуд все-таки выдраил всю квартиру; он знал, что все эти изыски будут бездумно проглочены под пиво, а их новый год начнется с того, что они повсюду будут находить крошки от этого прекрасного печенья — раздавленные, втоптанные в пол. В спальне он обнаружил, что Джуд уже спит, а окно приоткрыто, и воздух был такой плотный, что Виллему приснилась весна: деревья в желтом цветочном пуху и стаи дроздов с гладкими, будто промасленными перьями, беззвучно скользящие по небу цвета моря.
Когда он проснулся, погода снова переменилась, и он не сразу сообразил, что дрожит от холода, и что звук, ворвавшийся в его сон, — это шум ветра, и что его трясут, а имя его повторяют не птицы, а человеческий голос: «Виллем, Виллем».
Он повернулся, приподнялся на локтях — Джуд был виден ему только фрагментами; сначала он различил лицо, а потом сообразил, что Джуд держит перед собой левую руку, поддерживая ее правой, и она чем-то обернута — полотенцем, сообразил он, — и это полотенце в полумраке было таким ослепительно-белым, что, казалось, само служило источником света, и он смотрел на него как завороженный.
— Виллем, прости, — сказал Джуд, и голос его звучал так спокойно, что еще несколько секунд он думал, что это сон, и перестал слушать, так что Джуду пришлось повторить. — Виллем, произошел несчастный случай. Прости. Пожалуйста, отвези меня к Энди.
Наконец он проснулся.
— Что такое?
— Я порезался. Случайно. — Он помедлил. — Ты меня отвезешь?
— Да, конечно.
Но он все еще не проснулся, все еще был как в тумане и, еще не понимая, что случилось, торопливо оделся, вышел в коридор, где ждал Джуд; они вместе дошли до Канал-стрит, и он свернул в сторону подземки, но Джуд потянул его за рукав:
— Думаю, придется вызвать такси.