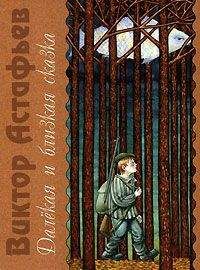Какое же это редкое и великое, по нынешним временам, счастье — прожить почти девяносто лет на своей родной земле, в родной деревне, в своем родном углу, в сельском миру, с детства близком и бессловесно любимом. Прожить, пусть в тяжких трудах и заботах, не ведая разлук и тоски в чужеземье, не поддавшись соблазнам и отраве городской жизни, прожить с покоем и прибранностью в душе и кончить своей век с достоинством, уйти с тихой молитвой на устах туда, откуда ты явился гостем на сей свет с назначением творить в меру сил, тебе данных, добро и успокоиться с сознанием до конца исполненного долга.
1988
Мой отец, снова исчезнувший с моего горизонта, объявился в краях совсем неожиданных, в Астрахани, на Каспийском море. Большой это загадкой было для меня: как сумел переместиться родитель с холодных заполярных земель, с тихих вод Енисея в бурные волжские стихии, аж из конца в конец страны!
Все оказалось просто, как просто и непостижимо доступно бывает лишь в судьбе человека, живущего в Стране Советов, полной сказочных чудес и превращений.
Папу переместили из дали в даль за казенный счет.
Когда было остановлено строительство мертвой дороги, часть трудового подконвойного контингента отсюда была перегнана на возведение волжского гиганта — Куйбышевской ГЭС. Народу там, по слухам, собралось аж полтора миллиона, но дело шло ни шатко ни валко. Когда лопнуло терпение у мудрой партии и не менее мудрого правительства, откомандировало оно туда правительственную комиссию дознаться, отчего это не только досрочно не заканчивается строительство очередного гиганта, но и в сроки не укладывается, хотя посылается туда самое идейное, самое целеустремленное руководство и рабочих не велено жалеть.
Папа мой редко вслух вспоминал про тюрьмы и лагеря, больше он про них пел и плакал. Но в какой-то исповедальный час он все же рассказал о том, как очутился на Каспии и какое там с ним вышло приключение.
— Комиссия меня вызывает. Захожу, руки по швам, честь по чести, имя, отчество, фамилия, докладываю, что тяну срок по указу Сталина от одна тысяча девятьсот сорок восьмого года, статья такая-то пункт такой-то, подпункт десятый. За столом комиссия сидит, самоглавный комиссар в кожане, точь-в-точь как на портрете Шшэтинкина, героя сибирской войны. Прицелился он на меня, востро так поглядел и говорит: «Петр Павлович, сколько лет вы находитесь в заключении?» «Шесть лет, семь месяцев и четыре дни. Часов не подсчитал, часов у миня нету». «Та-ак, — произнес комиссар. — А сколько ж вы пролежали в больнице?» «Ровно четыре с половиной года», — снова отчеканил я. «Во-он! — заорал комиссар и стукнул кулаком по столу. — Во-он со стройки! Чтоб духу не было!..» И миня как миленького помели со стройки — иди куда хошь со справкой о досрочном освобождении. Ну, таких, как я, много помели. Братва загуляла, и я с ей загулял, да куйбышевской милиции велено было вылавливать нас и в Гурьев направлять — там наборный пункт Кас-рыб-килька-холод-флота. Миня, как рыбного спеца, сразу на судно назначили. Капитаном. Я двоих наших, куйбышевских, матросами прихватил и поплыл по морю. Миня весь Каспий знал, сам начальник пароходства Назаров…
— Но, папа, Назаров — это на Енисее…
— Все правильно, Назаров, Иван. Утопил половину флота в Енисее, статья семисят пята, пунхт «д», подпунхт «в» — десять лет с лишением права голоса.
— Но, папа, Назаров здравствует в Красноярске и еще книжки пишет.
— Книжки? Пишет? В натури? Я бы ему, курве, написал!.. — И папа, скрипнув зубами, сжал кулачишко, на картошину похожий, ткнул им в окно, грозя аж за Уральские горы. — Я ишшо и глаз ему выбью.
За что про что он выбьет глаз человеку, который его со своего высокого руководящего мостика и не видел никогда, папа и себе не мог бы объяснить.
Отдышавшись от войны на Урале, обретя какое-никакое жилье и двух ребятишек, с трудом и приключениями отыскал я моего единственного родителя и призвал к себе в гости.
Папа откликнулся жизнерадостной телеграммой и посулился скоро быть. Пришла еще телеграмма, длинная, непонятная, с номером поезда, какой через станцию Чусовскую и не ходил.
Пассажирских поездов здесь следовало тогда не так много, мы давай к каждому ходить всем семейством. Расставлю я детей и жену у одних ворот, сам встану у других, стою, жадно всматриваясь в шествие пассажиров. Нет папы! И день нету, и другой нету. На третий день я к поезду не пошел — работы много было. Утерялся родитель. Снова утерялся! Неспокойно на душе, сплю и прислушиваюсь — папа ж человек пылкий, увлекающийся, мог нашу станцию и проехать, что как прибудет в неназванный час?
Так оно и получилось. В три часа ночи слышим стук-бряк в дверь сеней, говор, голос с хрипотцой, но до звонкости промытый. Я к дверям, жена меня за рубаху — на окраине на темной живем, почти в овраге, мало ли что.
— Да папа это, папа! — вырываюсь. Открываю дверь в сенки, спрашиваю, как обычно, кто там, а сердце колотится, бьется на последнем радостном взлете.
— А здесь ли проживает мой любимый сын Виктор Петрович Астафьев?
— Господи! Сколько лет, сколько зим!
Срывая кожу на пальцах, открываю крючок, а он никак не открывается, нашариваю какой-то предмет на полу, выбиваю крючок из скобки, дверь распахивается — на крыльце, освещенном тусклой лампочкой, стоит моложавый мужичок с усиками бабочкой, во всем моряцком, одеколоном пахнущий, фуражка с кокардой набекрень, белый шарфик вдоль бортов шинели.
— Папа!
Обнялись. Плачем. Сзади семейство толпится, череду ждет, жаждая облобызать единственного оставшегося в живых из всей родни старика. А он и на старика-то не похож. Этакий добрый молодец, представившийся капитан-директором, хотя был всего лишь шкипером на барже, развозившей пресную воду по Каспийскому морю для рыбаков, затем морским дебаркадером ведал, но упорно и всегда на звании том высоком настаивал.
Отчего же не встретили родителя-то? Он, как всегда, самонадеянно полагал, что яйца курицу не учат, что грамотней его быть невозможно, что «масла» в его голове вполне достанет любой документ обмозговать и составить, даже в пределах всего Каскилькохолодрыбфлота не подкопаешься, а какую-то там плевую дорожную телеграмму написать — вовсе разговору нету. Прежде чем ее, ту телеграмму, отбить, папа поддал для вдохновения, вот и перепутал все, что только можно перепутать. Число, номер поезда и вагон. Искал нас по городу с самого вечера, на окраину угодил, увидел дом, где окна светятся, гармошка звучит — крестины там шли — вошел, разговорился, засиделся, забыв, зачем и для чего он в этот город прибыл. Соседи же, сказав: «О вас ведь беспокоятся», с почтением, под ручки препроводили капитана-директора через ручеек, текущий по оврагу.
Не признавая своего дорожного поражения, папа убеждал нас:
— Железная дорога! Она, она, курва, напутала. Я чесь чесью телеграмму составил, хоть министру ее отбивай. Я ишшо ворочусь в Астрахань и глаз начальнику станции выбью…
Дивилось мое тихое семейство на новоявленное чудо. У няньки нашей, деревенской девки, рот как отворился, да так и не закрывался во все время пребывания моего родителя в нашем доме.
Стол был накрыт уж два дня, и, хотя шел четвертый час утра, мы сели, по стопарику подняли. Папа начал речь, но, дрогнув голосом, махнул рукой, пустил слезу и выпил за всех родных людей сразу, которых видел впервые и которых едва помнил по прошлой жизни. Сынок мой клевал носом, его скоро отправили спать. Дочка, бойкая в ту пору девочка, ластилась к гостю, к боку его прижималась, трогала светящиеся пуговицы на мундире и нарядные нашивки на рукаве, явно восхищалась таким редкостным дедом. Почувствовав родственную душу, папа звенел: «Ерина! Ерина!..»
Утром мне надо было передавать материалы на областное радио, где тогда я трудился, бумаги ждали на столе, голова трещала. Я отправился на покой. Скоро и жена пришла, легла рядом, вздохнула украдкой в темноте встревоженно и печально: «О Господи!..»
…Подскочили мы разом от бурных звуков музыки, топота, выкриков; в горнице дочка моя, учившаяся в музыкальной школе, грохала на пианино, папа босиком отплясывал и кричал моей ошарашенной жене, поверженной в изумление няньке, испуганному сынишке: «Маня! Мила Маня! Секлета! Андрюша! Учитесь, пока я живой! Ах! Ах! Ах! Жарь, матр-росы! Пр-равь, мор-ряки! Нам никака волна не страшна! Ах, милка моя, шевелилка моя! Я к тибе при-ышол, тибя дома не наше-ол! Ах! Ах! Ах-ха-ха…»
Любил ли я этого человека? Наверно, любил. Больше-то ведь некого было любить. Может, это и не любовь, а тот зов крови, о котором мы говорим мимоходом как о чем-то малозначащем, пустяковом. Нет, это не пустяк. Это болезненная привязанность, счастливую горечь которой ныне дано испытать уже далеко не всем. Когда я вижу, как девчушка или парнишка толкутся возле грязной пивнушки, плача, вытягивают из канавы упившегося до бесчувствия отца, а он еще и куражится, ругает, толкает ребенка, это ж ведь то же самое, пусть и по другому поводу сказанное: мне б надо вас возненавидеть, а я, безумец, вас люблю…