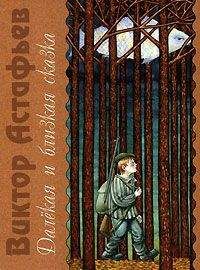— Н-ну, туды твою мать! Во дал! Во устряпался! Ране, бывало…
Вот такой мне наглядный пример был, как научились работать подневольные люди.
Меня еще после первого приезда папы из заключения с великой стройки Беломорканала имени товарища Сталина среди многих потрясло одно его сообщение. Схватившись за голову, он отчаянно кричал: «А-ааа-аб-ни-сен стеной высокай Александровский цынтрал». Ну, что такое «цынтрал», я уже знал к той поре — это ружье центрального боя. Но непонятно было — «нигде соринки не найдешь». Зачем соринки да еще в ружье? Но мне пояснили: двор это, двор и… «подметалов штук по двадцать в каждой камаре найдешь». Двадцать подметал на один двор! Конечно, чисто будет.
Но вот на сегодняшний день и двадцати подметал мало, всюду по Руси грязь, сор. И в головах мусор. И все метут, но чаще призывают мести, а дело же ни с места. Хитрую, поучительную ленинско-сталинскую науку мы прошли — шаг вперед, два шага назад, шаг влево, шаг вправо и… ни с места!..
Самопожиранием это называется.
Папа от рождения был артистом и, пройдя такой массовый тюремный театр, вовсе уже перестал ощущать жизнь «в натури», заигрывался даже порой до умопомрачения, и все ведь со смыслом, все, как ему казалось, кому-то потрафляя.
Собираюсь я в Сибирь на пятидесятилетие Игарки и говорю:
— Ну что, папа, передавать от тебя приветы Гале и Вовке?
— Какой Гале? Какому Вовке?
— Да твоим детям, дочери и сыну.
— Какие дети? Какая дочь? Какой сын? Ты насочиняешь!..
Гадкая черта, приобретенная в заключении: жить сей минутой, предавая всех и все. Папа забыл, но скорее делал вид, что забыл деревенские законы, среди которых главный — почтение к родным людям. Он почему-то решил, что предавая забвению детей, рожденных мачехой, угождает тем самым мне. Для него главное было в пьяном азарте сделать детей, а они уж пусть, как трава под забором, сами растут и сами опохмеляться соображают.
Вот оттого я не сразу решился откликнуться на призыв братьев привезти к ним дорогого папу.
Из Красноярска я должен был по командировке журнала ехать на юг края, папе ж надо было двигаться в северную сторону. Собрал я его в дорогу, купил родичам подарки, дал денег на житье и на обратную дорогу, просил, молил не пить в пути, вести себя пристойно в Ярцеве — брат мой, его сын Коля, болен, живет скудно.
— Пожалуйста, папа, не осложняй и без того нелегкую жизнь человека!
— Да чё я, маленький чё ли? Чё я, не понимаю?
Все понимал папа. Все, что ему надо, прекрасно помнил и знал. Угораздило меня погрузить папу на теплоход «Композитор Калинников». На «Калинникове» том главным механиком работал еще один наш Колька, покойного дяди Васи сын — «в натури» по папиной родове уродился гуляка, форсун удалой. Только отвалил теплоход от пристани, от причала, только отзвучал прощальный марш, как из судовой радиорубки раздался призыв:
— Главный механик Астафьев Николай Васильевич, вас просит зайти в каюту номер такую-то ваш близкий родственник!
Механик, как я уже заметил, нашенской породы, на подъем и на ногу скорый, стриганул на зов, широко отворил каюту и, заранее дрожа голосом от закипающих слез, возгласил:
— Да уж не дядя ли Петя?!
Схватились дядя с племянником, обнялись крепко-накрепко, грудь друг другу слезьми омочили, тут же сдали билет — еще не хватало такому большому начальнику таких дорогих родственников за деньги возить! Это пусть писатель наш по билету ездит, коль у него денег много. Племянник пересадил дядю в свою каюту, и загуляли ж они, запели, заплясали! В Ярцеве чуть тепленького передали сыновьям, невестке и внукам дорогого гостя. Колька-механик еще и в рупор с капитанского мостика кричал: «Дядю не обижать, хорошо его питать, опохмелять! И вопше!..»
Удивил папа и Ярцево, большое село, — покуролесил вдосталь, денежки все прокутил, подарки отчего-то не вручил, потерял или пропил, — кто знает, обманул сына, сказав, что на обратную дорогу «тот деляга» — это, значит, я — денег не дал. «Откуль ему набраться на всех на нас денег-то, ты уж давай подзайми или как». Тогда же, вдруг вспомнив про дочь Галю, собрался было двинуть в любимое Заполярье, в Игарку, но уже от долгого оглушительного пьянства заалел папа, обострился его вечный спутник — псориаз.
Кое-как, с трудом, с канителью отправили его из Ярцева домой. Долго потом мой брат крутил головой: «Забавный у нас папа!»
Прибыв домой, отец надолго завалился в привычную больницу. Я подумал: раз папа проявил такую решительность и пожелал увидеть родную дочь свою, попрошу-ка я Галю заехать в Вологду. Свозил ее в Сиблу, где папа жалостно произнес:
— На баушку на мою, на твою прабабушку Анну походит Галька-то. Помету-то нашего. Белинькая!
Папа часто нам писал из Астрахани стаpaтельные письма, подробно повествуя, как и чем он болен, сколько месяцев пробыл в больнице, как плохо стало с рыбой на Каспии, начальство совсем заворовалось, утопило три судна, одно прямо у причала, на Балде — так зовется протока, — и ничего ему, начальству-то, не привлекают ни по какой статье, а его вот ни за что ни про что упрятали «за сурову железну решетку».
Всем дружным семейством поплыли мы от Перми до Астрахани на теплоходе.
Жил папа с Варварой Ивановной в одноглазой глиняной пристройке, прилепленной ко множеству каких-то пристроек и строений во дворе. Каютой звал свое обиталище папа, в нее входили кровать, стол да плита об одну дырку. Эта квартира с окошком во двор, видом, но не просторами напоминающая сибирскую стайку для скота, принадлежала хозяйке, папа здесь был примак[264], но чувствовал себя царем.
Ночевали мы в квартире богатеньких евреев, живших здесь же, но не во дворе, а выше, над двором, в доме с террасой. Хозяин квартиры, Яша, работал зуботехником, Роза, хозяйка, вела дом, дочь училась в музыкальной школе, собиралась в консерваторию и хорошо играла на рояле. Папа водил с этим тихим семейством дружбу.
С рыбой уже в ту пору было в Астрахани плохо. Варвара Ивановна, коренная астраханка и морячка, где-то все же покупала рыбку, говорила, на причалах, и потчевала нас. Скудное и тесное жилье, папа, загулявший в честь нашего приезда и начавший, как всегда, куролесить, сократили наше времяпребывание в Астрахани. Через несколько дней мы отбыли обратно и в каждом ответном письме просили папу не хлопотать, не беспокоиться насчет рыбы, ее в ту пору в Вологде было больше, чем в Астрахани, да и сам я добычливо рыбачил. И хотя каждое письмо папы заканчивалось, как доклад Иванушки из «Конька-Горбунка»: «В общем, все благополучно», мы не очень этому верили, просили папу не пить, пожалеть свое здоровье и Варвару Ивановну, однако нет-нет и получали вопль из Астрахани: «Заберите, ради Бога, своего отца. Больше не могу!..»
Однажды Варвара Ивановна в глиняной каморке своей гладила белье, упала, уронив утюг на живот, и умерла. Сломалась еще одна русская многострадальная женщина. Надо было забирать папу к себе. Он после длительных и обильных поминок залег в кожный диспансер. Я подал ему телеграмму, чтобы он выписывался из больницы и собирался в дорогу. Папа сей же момент метнулся с телеграммой к главврачу, уже хорошо его знавшему, тот отпустил его с Богом, и папа, вернувшись в свою «каюту», тут же и загулял.
Явился я в узкий, без единого куста, без единой травинки двор, среди которого плескалась грязная лужа и за нею мерцала одним глазом папина «фатера», на которую имела виды и наконец дождалась своего угла племянница Варвары Ивановны. В благодарность она, видать, поставила папе выпивку иль деньжонок дала. Вылетел папа мне навстречу в одной майке, по телу его незалечимые, на пятна от банок похожие алые кругляши. Папа с объятиями, со слезами, с расспросами о здоровье внучат, жены, друзей, а сверху доносится:
— Возьмите-таки этого старого хулигана! Увезите подальше от нас!
Папа кулачишком грозит, кроет сверху живущих, был, говорит, там один честный человек, Яша, да еще Роза с дочерью, но и те за море уплыли, поскольку дочь кончила бесплатную консерваторию и теперь могла выгодно реализовать свои таланты. Сердится папа на астраханских евреев давно и непрощающе, хотя раньше водился с ними, лечился у них, сиживал в одной камере и рассказывал из тюремной совместной жизни много развеселых историй.
И рассердился-то из-за сущего пустяка.
Мне очень сложно с моим почерком и быстрописью подобрать перо для работы. И вот кто-то на день рождения подарил мне дорогую по тем временам китайскую ручку с золотым перышком. В руку пала ручка, сама писала, но от многоупотребления сносился наборный механизм, серенький корпус потрескался, лишь перо работало все так же мягко, неизносимо, и, перемотав ручку изоляционной лентой, я макал ее в пузырек, измазывался чернилами, как школьник. «Давай ручку-то в Астрахань увезу, — сказал папа, собираясь из Быковки на Каспий, — у меня полно знакомых мастеров-евреев, сделают все чесь чесью». В середине зимы из Астрахани вернулась ко мне ручка совершенно растерзанная, и вместо золотого перышка торчало в ней старое ученическое перо с обломанной шишечкой. Должно быть, папа привычно хвастался, что сын у него писатель, что ручку надо сделать первым сортом, что за ценой он не постоит, и даже не открыл коробочку после ремонта. Какая поганая, какая мелкая насмешка над непутевым стариком!