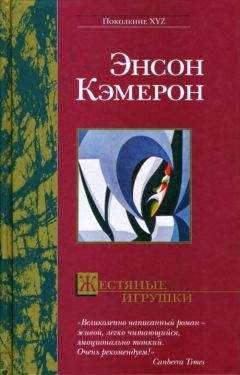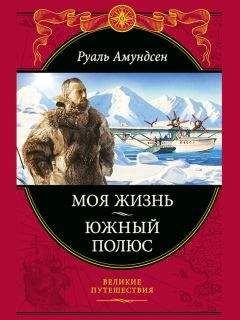Здесь пасутся стада одичавших, маленьких, толстопузых пони. Они щиплют осоку, и конский щавель, и что там еще может расти на солончаках. Это пояс Рождественских-пони на-выброс. Пони, которых покупают в подарок на Рождество джефферсонским детям. Пони, весь восторг от которых улетучивается куда-то с каждым прошедшим после Рождества месяцем до тех пор, пока где-нибудь уже зимой джефферсонские родители сдаются и говорят: «Ну ладно. Нинтендо победил. Обойдемся без Кометы». И так каждый год. Пони так и не удается забавлять детей лучше, чем это делают японцы с помощью своей суперсовременной джизмологии. Дареные кони, которым смотрели в зубы.
По-своему они даже страшнее байкеров. Проезжая по дороге в этих краях, не испытываешь особого желания смотреть по сторонам на этих пони. Я не удивлюсь, если до меня как-нибудь дойдет слух, что эти пони перешли на мясную диету.
Здесь, где не живет никто, кроме Рождественских-пони на-выброс, бьющихся друг с другом за те жалкие ростки, что пробиваются из соленой почвы под серебряными от древности деревьями, я снова становлюсь белым. Джефферсон теряет здесь свою власть надо мной. Я теряю свою историю.
Я подъезжаю к неровной цепочке деревьев, обозначающей начало речной поймы. Эвкалипты по обе стороны дороги здесь уже живые — сезонные паводки до сих пор заливают время от времени эти места, несмотря на то что со строительством плотин в верхнем течении реки это случается гораздо реже. Теперь река разливается летом, а не зимой. Да и причиной этого служат теперь не дожди, а неумелый контроль за уровнем воды. Сезонными паводками правит теперь управление по мелиорации, а Мать-Природа национализирована и оприходована миллионами фермеров.
Я проезжаю уже опушку Бармафореста. Асфальтовое покрытие сменяется щебенкой, и дорога ведет прямо в глубь леса. Деревья растут все гуще, а редкие хутора исчезают вообще. На ветровое стекло падает тень от огромных эвкалиптов, и над дорогой нависают причудливо изогнутые ветви. Паводки, заливающие лес раз в два года, окрасили все на высоту двух метров от земли в серый цвет.
Впереди уже мелькают в просветах между деревьями ярко освещенные солнцем Выселки. Последний островок расчищенной земли перед рекой. Я правлю прямо туда. Ворота распахнуты настежь, и створки их упираются в ржавый катер «Ферфи». Металлическая табличка черным по белому гласит: «ВЫСЕЛКИ». Я медленно, на первой передаче пробираюсь по его странным сельскохозяйственным посадкам. Гектарами его урожая.
Здесь собраны все механизмы, которые, как полагали люди, будут нужны им вечно. Ржавый комбайн «Саншайн», скуластая армейская лодка цвета хаки в ржавых разводах, сеялки, косилки, бороны, ржавый грузовик «Бульдог», штабеля серых, скрученных сыростью досок, ржавые армейские амфибии, несколько джипов «Виллис», автокран, остроносый паром для переправки небольших партий скота через реку, сияющий нержавейкой автоклав, всякая всячина из обанкротившегося магазина «Джонсон», ржавые цистерны для воды, угнездившиеся в желтой траве бурые плуги, все еще сохранивший ярко-желтую окраску асфальтоукладчик, клетки для скота, мотки ржавой проволоки, несколько пикапов сороковых годов выпуска, штабель стальных бочек с гвоздями и моющими жидкостями, передвижная силосная башня, железные сельскохозяйственные орудия, выкованные кузнецами Бог знает для каких целей. А ведь здесь имеются еще восемь в разной степени покосившихся амбаров — деревянных и жестяных, — под завязку набитых тем, что осталось от нескольких поколений фермеров.
Он как магнит притягивает к себе этих ржавых динозавров, мой старик. Собирает их на распродажах старья по всему штату. Выписывает специально из-за них «Трейдинг Пост». Тащит на Выселки любой хлам, который весь остальной мир расценивает как бесполезный. Он стаскивал его сюда до тех пор, пока Выселки не начали сбивать компасные стрелки у небольших самолетов, пролетающих над этим местом. В авиационных журналах это характеризуется как местный навигационный феномен.
И что характерно: он даже не пытался поддерживать их в порядке. Он никогда не полировал штурвалов, не отчищал от ржавчины шестерни приводов, не отдирал ласточкины гнезда с кабин грузовиков, не брызгал аэрозолем под кузов, выводя угнездившихся там термитов, не укрывал тонкий, ржавеющий металл брезентом от непогоды. Только покупал это, сволакивал на буксире сюда. И оставлял гнить.
Вы можете спросить его: «Зачем? Почему именно этот… эти вещи?» В ответ он только пожмет плечами. Если уж вы спрашиваете об этом… вам все равно не понять.
Но если вы все-таки проявите настойчивость и зададите этот вопрос еще раз, он с легкой улыбкой окинет взглядом свое поле мертвой, гниющей техники и повернется к вам.
— Это ведь все… ну, черт подери, памятники, так? Эти штуковины были частью… чьей-то жизни, что ли? — Он не может найти слов, чтобы объяснить вам, что значили эти машины для людей, которые давно уже умерли. Он, можно сказать, стихийный хранитель чужого образа жизни, привычек, привязанностей. Вещей, которые были нужны людям когда-то.
Судя по тому, как повернулась его жизнь, мой старик сподобился-таки понять, что время в его вчерашние дни было куда вкуснее, чем будет в его завтрашних. Что такого вкуса ему уже больше не испытать. Эту житейскую мудрость он делит с черным народом, живущим по соседству с ним вверх и вниз по реке. И он доказывает ее своим комбайном «Саншайн», и своей бензопилой, и своей широкоскулой армейской лодкой, и вообще всей своей мертвой машинерией, всеми котлами и змеевиками, что дистиллировали чистоту его юности, и его успеха, и всех его минувших дней. А черный народ доказывает ее своими танцами, и жалкими клочками своего языка, и своими мифами, и своим беспробудным пьянством, и общей деградацией.
Заезжие туристы время от времени заглядывают сюда поглазеть на это поле ржавых предметов. Так, как ездят они в Голберн поглазеть на самого большого в мире бетонного барана, или в Хенкобан — на самую большую в мире бетонную форель, или в Джиппсленд — на самых больших в мире джиппслендских дождевых червей. Сюда они заезжают поглазеть на самое большое в мире собрание ржавого прошлого. И они ахают, и говорят «Уау!», и говорят «Иисусе!», глядя на это из окна машины, проезжая поле в одну сторону, а потом ахают, и говорят «Уау!», и говорят «Черт возьми!», возвращаясь обратно, и называют все это гигантской кучей дерьма. Чем прошлое, возможно, и является.
Сам дом наполовину прикачен сюда на катках из бревен, а наполовину привезен сюда на буксире за грузовиком. Он представляет собой две половины двух разных щитовых домов. Развернутых спина к спине и придвинутых друг к другу. Этакий сиамский монстр со всеми необходимыми причиндалами, воспроизведенными по обе стороны от гостиной, с которой он сросся. Полусгнившая ванная в восточном крыле и полусгнившая ванная в западном. Маленькая, закопченная, пропахшая жиром кухня в восточном крыле и маленькая, закопченная, пропахшая жиром кухня в западном. По сырой спальне с массивной продавленной кроватью в каждом крыле. Кровля над обоими крыльями изъедена ржавчиной, а потолки провисли и покрыты бесформенными пятнами потеков, отчего похожи на карты незнакомых стран.
Старик теперь живет только в западном крыле, поскольку пару лет назад соорудил на тамошней кухне камин, взял бензопилу и выпилил отверстие в стене между кухней и ванной, в котором поставил телевизор, чтобы смотреть его целыми днями.
Чаще всего его теперь выманивает с Выселков периодическая потребность посидеть в обществе, не рассказывая свою историю. В такие дни он убеждает себя, что история его жизни — это как раз то, чего не хватает остальному миру, пусть даже сам мир этого не знает. В такие дни потребность не рассказать ее разгорается в нем все сильнее, и тогда он забирается в свой «Лэнд-Крузер» и едет из леса в местные кабаки, где тихо напивается у бара, пока молодые мужчины и женщины с ферм или из маленьких городишек пьют рядом с ним и удивленно косятся на него, а иногда, набравшись хорошенько, даже спрашивают, кто он такой. Он поедет или вверх по течению, в Барминские кабаки, или вниз по течению, в Тукумуолские кабаки. И он будет сидеть в холодном, ферментирующем воздухе под чучелом огромной мёррейской трески с разинутым ртом, пойманной еще до Мировой… в смысле, до Второй Мировой, и с тех пор усохшей и окаменевшей внутри, под чешуей. На стене под чучелом рыбы висят пожелтевшие черно-белые фотографии давно умерших людей, которые поймали ее когда-то, — людей в фетровых шляпах, белых бумажных рубахах с закатанными на худые бицепсы рукавами и мешковатых штанах на подтяжках. Они стоят, выгнувшись назад и изо всех сил напрягая мышцы рук, чтобы удержать выловленного ими левиафана на весу для снимка на память. Улыбаясь глупыми улыбками от счастья. От торжества.
Он будет сидеть в каждом из этих кабаков с рыбами на стенах, выпивая кружку за кружкой, ни с кем не разговаривая, но отчетливо понимая, что все вокруг жаждут услышать историю его жизни. Одинокий и загадочный. Знающий, что каждый может увидеть это в его поведении, в его изборожденном морщинами лице, в его заскорузлых руках, а более всего во взгляде его глубоко посаженных серых глаз — взгляде, который проходится по тебе, словно луч какой-то неземной системы наблюдения, просвечивая тебя с твоими мелкими страстишками насквозь. Зная, что под чучелом огромной трески все видят не кого-нибудь там, а человека, чья жизнь превратилась в эпос, человека, звонившего в колокола невероятного, чей звон до сих пор отдается в ушах.