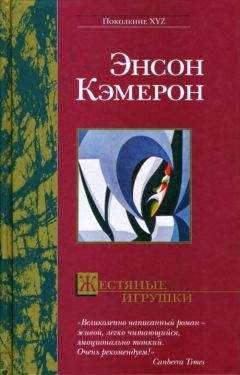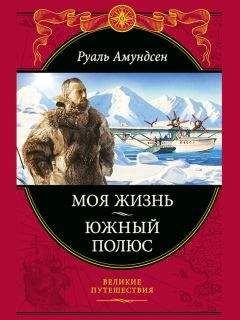— Как ты собираешься перебраться из грузовика в лодку, не подняв тревоги? — спрашиваю я.
Он опускает взгляд на погруженную в эмалированное ведро ногу.
— Эта штука подает сигнал раз в минуту, — отвечает он. — Сигнал, потом минуту молчит, потом снова сигнал. За минуту я расчешу гриву пони и суну ногу обратно, а они ничего и не заметят.
— Еще как посмотреть, — говорю я ему. — Это еще семь раз отмерить. Семью семь раз отмерить. — Я кладу его коробку со снастями, полную мотков нейлоновой лески, и сплющенных свинцовых грузил, и больших ржавых крючков, и выцветших пробковых поплавков в плоскодонку. — Откуда ты знаешь, когда она подает сигнал? Кто подскажет тебе, когда вынимать ногу из этого ведра, чтобы эта штуковина не просигналила как раз в этот момент? Не подняла тревогу, прежде чем ты шаг успеешь ступить? — спрашиваю я. — Прежде чем ты успеешь обольстить своего пони, так сказать?
— Я ощущаю ее сигнал, — говорит он мне. — Это вроде как языком батарейку пробовать. Электричество чуть-чуть пощипывает мне ногу.
— Ты уверен?
— Заводи этот чертов мотор, — говорит он. И сразу же вынимает ногу из ведра, явно не дожидаясь никакого там сигнала, который дал бы ему минуту свободы. Он спускается к воде, и перебирается через борт, и садится на носу, и свешивает ногу через борт в воду, желтую от пробивающихся сквозь листву солнечных лучей. Он показывает мне большой палец, потом его пробирает дрожь и он зябко охватывает плечи руками.
— Прохладная водичка. Талая.
Мы держим путь вверх по течению. Лесные утки, и черные утки, и чирки с плеском срываются с воды за каждым новым поворотом реки, и взмывают в синее небо, и окрашиваются в золотой цвет на солнце, и делают круг, и снова садятся на воду у нас за кормой. Спустя некоторое время я убираю газ, понизив жужжание мотора до едва слышного звука, и подвожу ялик к берегу, в самое сплетение корней и упавших деревьев. Он продолжает командовать. Поближе к вон тому корню. Дай-ка поглядеть на вон ту ветку. Он проверяет их на прочность, на гибкость, дергает за них и налегает на них своим весом так, словно им сейчас придется удерживать каких-то невероятно сильных мифических речных тварей. К тем, чья прочность представляется ему удовлетворительной, он привязывает двухметровые отрезки толстой лесы — чуть ниже уровня воды. К концу лесы привязаны крючки размером с добрую чайную ложку. Калибр этих крючков наглядно демонстрирует его веру в то, что недра реки все еще таят в себе нечто ужасное и сверхъестественное, равно как его отрицание того очевидного факта, что конец двадцатого века превратил мир в ухоженную ферму, в которой все дикие твари либо приручены, либо изничтожены. Да и не только крючки — вся эта наша поездка представляет собой акт веры. Или акт отрицания.
— А здесь, пожалуй, можно и на живца. — Он отвинчивает крышку и вытряхивает мелкую рыбешку-живца из алюминиевого футляра из-под сигары, вот уже много лет служащего кратковременным пристанищем сотням живцов. Уложив длинного белого живца в блестящее от воды русло своей ладони, он пару раз приподнимает его, взвешивая. Потом вынимает из коробочки со снастями черное резиновое колечко и осторожно, так чтобы не повредить тонкую кожицу и внутренности живца не смыло водой, крепит рыбешку резинкой к крючку. Потом бросает его в поток и объявляет, что это верняк. Стопроцентный верняк. Он повторяет это еще раз и еще, привязывая к своим огромным крючкам живых рыбешек и жирных лягушек. Это звучит как заклинание. Стопроцентный верняк.
Когда все лесы заброшены, я глушу мотор и мы медленно дрейфуем вниз по течению в поисках хорошего места для ловли удочкой. Я передаю ему банку пива. Стайка бурых цапель срывается с поверхности воды прямо у нас по курсу и тут же скрывается в нависшей над рекой листве. Огромные тысячелетние деревья, возвышающиеся над остальным лесом, испещрены белыми точками тысяч какаду, поднимающих при нашем появлении дикий ор.
Лес плывет нам навстречу и скрывается за кормой. Он рассматривает его с легкой улыбкой. Он нигде не бывает счастлив так, как на реке. Там, где он снова становится самим собой. На реке, где ему запрещено находиться.
Запрещено с позапрошлого лета, когда он остановил свою «Тойоту» на своем берегу, увидел вспоротую белым буруном водную гладь и зажмурился от визга несущейся по этой глади игрушки — водного мотоцикла. И он полез в кабину «ЛэндКрузера», порылся за сиденьями, и вытащил свой ружейный чехол, и расстегнул его, и достал из него свой карабин двухсот сорокового калибра, пушку, которую просто дома держать в наше время ограничений и запретов — и то рискованно. И положил его на капот, и открыл затвор, и сунул в патронник один-единственный «Магнум» размером с палец, и закрыл затвор. Потом широко расставил свои мозолистые ноги, и обхватил бедрами переднее крыло, и лег торсом на горячий капот, и уперся в него локтями, и прижался глазом к окуляру двенадцатикратного прицела «Леопольд», и начал выискивать в прицел гидроциклиста. Всматриваться в трагедию чужого развлечения, приближенную к нему оптикой. Скользя перекрестьем прицела по бурой воде в двух метрах от носа гидроцикла.
Бормоча что-то себе под нос, он передвигает перекрестье чуть назад, коснувшись им носа скользящего по водной глади аппарата, потом двигает его обратно, на два метра вперед, в точку, где по его расчетам должны сойтись траектории гидроцикла и свинцовой, в стальной рубашке пули 240-го калибра. Потом перемещает перекрестье на самого седока. Мышцы того напряжены, он весь с головы до пят отдался этому развлечению двадцать первого века. Длинные мокрые волосы вытянулись за спиной параллельно воде. Лицо исказилось то ли в ухмылке, то ли в гримасе в той ничейной зоне, где сходятся страх и веселье.
Мой отец бормочет что-то себе под нос — действительно, вопрос стоит того, чтобы обмозговать его про себя. Обмозговать вполголоса, рассмотрев с двух точек зрения. С точки зрения номер один, да, это зло, концентрированное, и ничем не прикрытое, и несущееся по древним водам со скоростью в сотню километров в час. А с точки зрения номер два, нет, никакое это не зло, это просто современное развлечение. Ублюдок двадцать первого века развлекается на лоне природы..
Он опять бормочет что-то себе под нос, и прикусывает губу, и переносит перекрестье прицела на пять метров вперед перед несущейся развлекательной машиной, и кладет палец на спусковой крючок, и плавно нажимает на него вторым суставом указательного пальца. Выстрел отдается от капота «Тойоты» ударом гонга, и на мгновение над ним зависает шестидюймовый слой абсолютно неподвижной пыли. Прямо по курсу несущегося гидроциклиста вдруг вырастает столб бурой воды, и тот, все с той же гримасой то ли страха, то ли радости на лице, кувырком летит в пенный бурун за кормой.
Выстрел отдается яростным эхом встревоженных какаду. Мой отец поднимает взгляд так, словно это глас самого Господа, потом опускает его обратно на реку и говорит реке: «Компромисс». И чуть обиженно надувает губы, словно сожалея о том, что не застрелил этого человека насмерть.
Гидроцикл тем временем кружит почти на месте, приглашая забраться обратно в седло. Но человек, который только что был резвящимся-ублюдком-двадцать-первого-века, теперь просто лишенный определенной эпохи беглец, и он не собирается садиться в седло своей стремительной игрушки, пока вокруг нее вздымаются, как на войне, столбы воды от каких-то необузданных снарядов. Он держится под водой. Под водой он отчаянно плывет к противоположному, ново-южноуэлльскому берегу, испуганно вглядываясь в сажени ярко-желтой воды. Он всплывает только раз, затянув это настолько, насколько позволяют ему разрывающиеся от нехватки кислорода легкие, жадно глотает теплый летний воздух и снова уходит под воду. Наконец он выскакивает из воды в тени ново-южноуэлльского берега и, скользя по жидкой грязи, виляя из стороны в сторону, ныряет в густую траву и все тем же безумным зигзагом бежит к ближайшему представителю власти. Какому угодно представителю власти. Любому представителю власти. Даже тому, которого он в конце концов находит, — проживающего отшельником где-то на опушке леса, в жилом трейлере, в обществе бутылки виски, делающего вид, будто он содержит молочную ферму. Которому, в конце концов, и излагает свою историю.
Мой отец тем временем смотрит на гидроцикл, кружащий по воде и бормочущий в бурую воду что-то — ни дать ни взять робот-собачка, ищущий своего хозяина, который бежит где-то в ново-южноуэлльском лесу.
— Твоего хозяина здесь нет, — говорит он этому роботу-собачке. — Твой хозяин занят сейчас поисками Гнева Господня, дабы привести его сюда и обрушить на меня.
И тот Гнев Господень, какого нашел в конце концов тот человек, обрушивается-таки на него в лице Джефферсонского Суда Магистрата. Еще раз. Все на полном серьезе, со всеми процедурами и при париках, под управлением одного из выездных судей штата, который стучит своим молотком, призывая зал к спокойствию. И они снова излагают свои истории. Гидроциклист излагает свою историю, как он предавался законному отдыху после честного плотницкого труда, и тут его отдых грубо нарушили тем, что можно охарактеризовать как неспровоцированные военные действия. Без предупреждения. Этакий Пирл-Харбор в отношении отдельно взятой личности. Армагеддон, гром среди ясного неба. Столб воды от падения снаряда. Он тоже страдает под гнетом психологической перегрузки. Он демонстрирует всем присутствующим свои дрожащие руки.