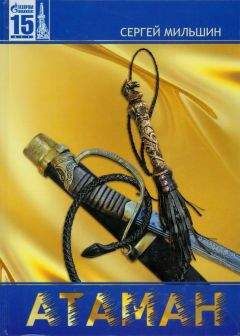— Давай попробуем, на следующей неделе, или…, ладно, там ближе к делу определимся.
— Договорились, — Гаркуша ткнул ладонями в колени и поднялся. — Ты как, Иваныч, я так понял, не против?
— Я не против, все что вспомню, расскажу, а не вспомню, придумаю, — он хитро подмигнул казакам.
— А вот этого не надо, — Атаман решительно взялся за ручку двери, — сказок нам и так уже достаточно порассказали.
С этими словами они вышли в холл.
Деду Тимке Калашникову настроение испортили сразу после обедни. Потный, но воодушевленный, каким часто бывал после проповеди, даже не проповеди, а как определял для себя дед, лютой крепости напитка под видом святых речей, помахивал ногами, сидя на телеге, не понукая умного коня, и тихонько размышлял. Эта речь с амвона пробирала его до печенок, до самой глубокой внутренности. Этакий крепчайший самогон батюшкиного разлива, от первого стакана которого личность будто другой становится. Так некоторые казаки на круге выступали, горячо, крепко и в то же время уважительно. Вроде только послушал, а будто пьян делаешься, слезы на глаза наворачиваются. А потом одна рука сама собой к сабле тянется, а другая — к седлу. А вот после огненных слов отца Георгия хотелось не саблю в руки брать, а бросить все и в монастырь отправиться, чтобы Богу служить и на мирские дела не отвлекаться.
«Сегодня как раз казаки соберутся погутарить, — думал про себя старик, привычным взглядом оглядывая окрестности неширокой улицы, убегающей из станицы, — надо будет с ними это обсудить. Что скажут, а то, может, и правда в монастырь собраться. Не сразу, конечно, а для начала так просто съездить, посмотреть. Запрягу в бричку Мурома и поеду. А что? Дней за пять доберусь, монастырь не так уж и далеко, всего верст триста, не более. А за хозяйством пока Пантелей присмотрит. Вот только кобыла жеребиться должна скоро, не знаю, справится ли? — старик опустил голову и призадумался. — Даже не знаю, что и делать. Надо все-таки с казаками посоветоваться. — он шевельнул вожжи. — Не спи, Муромка. Ох, и жара…»
Прозрачное небо висело над головой, словно раскаленная жаровня, да еще земля дышала таким ощутимым теплом, что подошвы сапог, раскачивающиеся в такт двигающейся телеги, казалось, еще немного и задымятся. Широкие улицы станицы не давали тени, вишни и яблони теснились ближе к домам, а большая часть пыльной дороги оставалась пуста и горяча. Дет Тимка, почти не замечая знакомых много лет окрестностей, бездумно разглядывал хаты станичников под камышом, раскиданные вдоль улицы без всякого порядка — как Бог на душу положил, разновозрастную детвору, играющую на дороге в «пекаря» и отбежавших, чтобы его пропустить, высокие тополя на окраине — давно приевшиеся, но все равно родные картины. Старик неспешно двигался посередине дороги, обмахивался скомканным платком и также размеренно размышлял о своем будущем, которое представлялось им в эти минуты исключительно монастырским.
Он решил добраться до хаты, наскоро перекусить — с утра дома не был — и сразу выдвигаться обратно. На выезде из станицы дед Тимка пожалел коня, которому в такую жару тоже было нелегко, и он обильно потел на крупе, сполз с соломы, набросанной в телегу, и зашагал рядом, придерживая вожжи одной рукой. И в этот самый момент, когда дед Тимка таким вот образом мирно строил планы на будущее, обтираясь мокрым уже рукавом, какой-то босой сорванец неожиданно выскочил из-за плетня и, оглядываясь назад, со всего маху врезался белесым затылком деду в живот. Дед Тимка охнул и согнулся. Но рука свое дела знала: жилистые, почти коричневые пальцы намертво ухватили скользкое от пота ухо мальчишки. Дед остановился. Замер и Муром, лениво обмахиваясь хвостом.
— Ай, ай, — заверещал паренек, — больно!
Дед Тимка медленно восстанавливал дыхание, сбитое ударом, и так же неторопливо выпрямлялся, не обращая внимание на морщившегося от боли сорванца. Наконец, он выдохнул ком воздуха, будто застрявший в горле, и внимательно глянул не по годам острым глазом на попавшуюся в его руки добычу.
Мальчишка уже не верещал, только молча кривился, ухватившись обеими руками за крепкие, словно железные, пальцы деда.
— Ты чей будешь?
Мальчик поднялся на цыпочки, пытаясь уменьшить натяжение уха, и выдавил:
— Осанин.
— Звать как?
— Иваном.
— Почему под ноги не смотришь?
— Я больше не буду, — мальчишка уже чуть не плакал.
Дед Тимка немного остыл и ослабил хватку.
— Дед — Макоша?
— Да…
— Тьфу, ты, — старик от досады сплюнул и отпустил набирающее красноту ухо. — Такой у тебя дед хороший казак, и такой у него внук бестолковый.
Мальчишка молчал, опустив голову и ладошкой потирая оттопыренное горячее ухо.
— Иди домой и скажи отцу, чтоб выпорол. Понял?
— Понял, — мальчишка шмыгнул и попятился.
— Я приду — проверю.
Парнишка кивнул, сорвался с места и сразу же исчез за углом. Дед Тимка нахмурился и покачал головой. Потом он вспомнил, что ему надо торопиться.
— Но, двигай, давай, — старик дернул вожжи.
Конь проигнорировал приказ, вяло махнул мордой и вздрогнул кожей, отгоняя мух. Дед для видимости потянулся за нагайкой. Муром, скосил круглый глаз назад и, заметив движение хозяина, медленно с ленцой тронул с места.
— Совсем разбаловался, — проворчал старик и легко запрыгнул спиной вперед на телегу, — отдохнул и хватит. Делаешь ему хорошо, а он сразу на шею садится.
Телега неторопливо покатилась дальше. Добираться было не близко.
Дом старика Калашникова стоял на отшибе. Крепкий деревянный сруб, обмазанный глиной и побеленный. Над домом возвышался высокий чердак, набранный из неструганных плах, с окошком на фасаде. Вокруг двора, по бокам от высоких дощатых ворот дед поставил сплошной плетень, чтобы птица не выскакивала, да и спокойней так — все-таки в стороне от станицы, ежели что случится, пока помощь подоспеет. А так, все какая-никакая, а защита, от неприцельных пуль укрыться можно. Правда, последнее время черкесы баловать перестали. То ли боятся, то ли поумнели. Впрочем, дед за многие годы жизни бок о бок с горячими соседями составил о них вполне определенное мнение, точно выражавшееся в его понимании русской поговоркой: «Горбатого могила исправит».
Погруженный в неспешные мысли, старик и сам не заметил, как подъехал к воротам своего дома. Спрыгнул на землю, привычно огляделся. Вроде тихо. На своих местах находилось все, что должно находиться. Хотя, один раз дед подозрительно прищурился — небольшой стожок сена, накиданный в стороне от ворот, у основания немного разлохматился. Старик слегка насторожился, но виду не подал и шаг не замедлил. Если кто там и притаился, ни за что не догадается, что обнаружен. Впрочем, дед сам себя тут же и урезонил. «А вообще это и ветер может, или козочка дикая, что это я сразу решил — человеческих рук дело? Наверное, старый стал, потому за каждым кустом черкес и мерещится.» — дед Тимка осторожно и незаметно выпустил воздух через зубы.
— Ладно, — решил, — потом между делом захвачу вилы и будто за сеном подойду — проверю. Береженого, как говорится, бережет. — Он уверенным движением закинул руку за калитку, привычно нащупал засов и потянул его.
Вот уж действительно, если начинает с утра все идти наперекосяк, то одним тычком в живот не ограничится. Во дворе, прямо за воротами первым же шагом он вляпался в коровью лепешку. В доме гремела чугунками жена деда Тимки Пелагея, в углу двора около сенника копошился сын Пантелейка. Он уже больше двадцати лет жил своим двором, а сюда наведывался иногда помочь по хозяйству. Дед коротко задумался: кто же это за коровой недосмотрел, Пелагея или Пантелейка? Обычно корову встречает жена, но связываться с супругой, которая сама была остра на язык и спуску деду не давала, не хотелось. К тому же во дворе находился сын, а, значит, он тоже мог впустить буренку на дневную дойку. Вычислив виновного, дед решительно направился к сеннику.
Пантелей — здоровый казак, на добрых полторы головы выше отца, поправлял ограду у сенника. В этот момент он вкапывал блестящий от сока кленовый столбик на место старого сгнившего. Увидев быстро приближающегося, раздраженно шаркающего испачканной подошвой отца, он выпрямился и с силой воткнул лопату в землю.
— Случилось чего, батя?
Этот спокойный, с заботливыми интонациями голос еще больше вывел из себя деда Тимку:
— А ты не знаешь, да?
— Нет, — покрутил головой Пантелей.
— Корова кучу под калитку наложила, заходите гости дорогие, — мы вас ждем. А если бы не я зашел, а… а Атаман, к примеру?
Пантелей хмыкнул.
— Так не зашел же.
— А я что, по — твоему, кусок дерьма, что ли? Мне, значит, можно? Ну, что молчишь?
Пантелей, немного ошарашенный напором отца, примирительно вскинул руки.