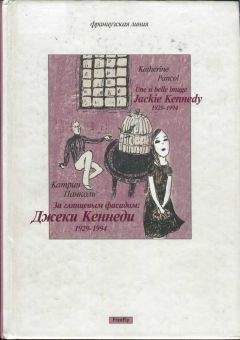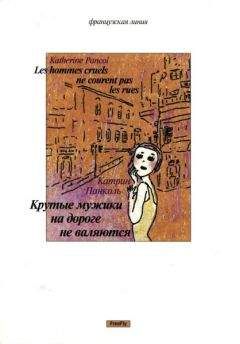Она скрепя сердце вернулась в Париж. Но когда посмотрела на чек, выписанный секретаршей Филиппа, жалеть перестала. Сперва подумала: тут какая-то ошибка. У нее возникло подозрение, что Филипп ей переплачивает. Она редко его видела; как правило, имела дело с секретаршей. Иногда он оставлял ей записки, в которых благодарил за прекрасную работу. Однажды даже добавил: «P.S. От тебя я другого и не ожидал».
Сердце Жозефины бешено забилось: она вспомнила разговор в его кабинете и тот вечер, когда… когда поссорилась с матерью.
А потом помощница Филиппа, та, которой она обычно сдавала работу, спросила, по плечу ли ей переводить с английского литературные произведения. «В смысле, книги?» — переспросила Жозефина, вытаращив глаза. — «Ну да, именно…» — «Настоящие книги?» — «Да… — ответила сотрудница, несколько раздраженная дурацкими вопросами. — Один из наших клиентов — издатель, ему требуется быстрый и качественный перевод биографии Одри Хепберн. Я тут же подумала о вас». — «Обо мне?» — повторила Жозефина сдавленным голосом, потрясенная до глубины души. — «Ну конечно, о вас», — ответила мадемуазель Каролина Вибер, уже заметно нервничая. — «Ох… я с удовольствием! — сказала Жозефина, стараясь сгладить впечатление. — О чем речь! А когда нужно сдавать работу?»
Мадам Вибер дала ей телефон издателя, и все мгновенно решилось. За два месяца надо было перевести книгу «Жизнь Одри Хепберн», 352 страницы мелким шрифтом! Два месяца, подсчитала Жозефина — значит, к концу ноября.
Она вытерла пот со лба. Ведь у нее были и другие дела. Она должна была выступить на конференции в Лионском университете, подготовив доклад страниц на пятьдесят о работницах швейных мастерских XII века. Средневековые женщины трудились не меньше, чем мужчины, но выполняли другие функции. По документам суконщиков на сорока одного работника мастерской приходилось двадцать женщин. Им были заказаны профессии, которые считались утомительными, связанными с тяжелым физическим трудом. Например, работа на ткацком станке требовала постоянного напряжения рук. Многие превратно представляют себе эту эпоху, воображая, что женщины затворялись в своих замках, затянутые в корсеты и закованные в пояса целомудрия, но на самом деле они вели довольно активную жизнь, особенно представительницы низших сословий. Аристократки — в меньшей степени, конечно. Жозефина задумалась, как начать доклад. Может, историческим анекдотом? Или статистикой? Или для начала вывести общие закономерности?
Карандаш застыл в воздухе: она размышляла. Как вдруг посторонняя мысль бомбой взорвалась у нее в голове: она забыла спросить, сколько заплатят за Одри! Как трудолюбивая швея, взяла работу, а про деньги забыла. Ее охватила паника — вот вляпалась! Как поступить? Позвонить и сказать: «А кстати, сколько вы мне заплатите? Глупо, конечно, но я совсем забыла это с вами обсудить». Спросить у Каролины Вибер? Ни в коем случае. Квелая и вялая, квелая и вялая, квелая и вялая. «Все произошло слишком быстро!» — сокрушалась она. Ну а как иначе? Людям не дают времени на раздумья. Зря она не записала на бумажке все вопросы, отправляясь на собеседование. В следующий раз надо соображать и действовать быстрее. Это ей-то, бедной ученой улиточке…
Ширли здорово помогала ей в переводе. Жозефина отмечала слова или выражения, в которых сомневалась, и бежала к соседке. Так и бегала туда-сюда.
Зато теперь ее подсчеты ясно показывали, что она неплохо справляется. В радостном возбуждении Жозефина развела руки в стороны, словно устремляясь в полет. Счастлива! Счастлива! Потом она стала молить небо, чтобы чудо продлилось, не исчезло. Она никогда не говорила себе: все потому, что я работаю, неустанно работаю. Нет! Никогда Жозефина не пыталась установить связь между работой и вознаграждением. Никогда не поздравляла, не хвалила себя. Она благодарила Бога, небо, Филиппа или мадам Вибер и даже не думала урвать себе хоть частицу славы за те часы, что провела, склонившись над словарем и листом бумаги.
Надо бы купить компьютер, так дело пойдет быстрее. Нет, это немалые деньги, сказала она себе и махнула рукой.
В одной колонке значились доходы, в другой расходы. Карандашом она записывала вероятные прибыли и траты, красной ручкой — те, в которых была уверена. И округляла, сильно округляла, причем не в свою пользу. Чтобы оставался некоторый запас и можно было не бояться непредвиденных трат. Но, как ни печально, запаса почему-то не оставалось! Случись что-нибудь — разразится катастрофа!
А помочь некому.
Вот оно, истинное значение слова «одиночество». Раньше, вдвоем было проще. Раньше Антуан следил за всем. Она подписывала везде, где он показывал пальцем. Он смеялся и говорил: «Ты ведь так можешь любую ерунду подписать», а она отвечала: «Ну конечно! Я же тебе доверяю!» Он целовал ее в шею, пока она расписывалась.
Теперь ее никто не целует в шею.
Они так и не завели речь о разводе. Она все так же легко подмахивала все бумажки, которые он ей давал. Без лишних вопросов. Закрывая на все глаза, лишь бы длилась эта связь между ними. Муж и жена, жена и муж. В горе и в радости.
Он продолжал «проветриваться». С Миленой. Полгода — достаточный срок, чтобы развеяться, подумала Жозефина, чувствуя, как в ней закипает гнев. Последнее время эти внезапные вспышки гнева случались все чаще и чаще.
Когда он приехал за девочками в начале июля, ей стало больно. Очень больно. Хлопнула дверца лифта. «Пока, мамуля, хорошо тебе поработать!» — «А вам хорошо отдохнуть! Развлекайтесь как следует!». И тишина на лестничной клетке. А потом… она выбежала на балкон и увидела, как Антуан грузит чемоданы в багажник. Из переднего окна рядом с водителем, где обычно сидела она, торчал локоть. Локоть, обтянутый тонкой красной тканью.
Милена!
Он берет ее на каникулы с девочками.
Милена!
Она сидит на ее месте.
И даже не скрывается, высунула локоть в окно. Свой красный локоть.
У Жозефины возникло минутное желание побежать вниз за девочками и за шкирку вырвать их из когтей отца, но она сдержалась. Антуан имеет право. Ничего не поделаешь.
Она так и осела на бетонный пол балкона. Прижала сжатые кулаки к глазам и плакала, плакала. Долго. Не шевелясь. В голове крутились одни и те же кадры. Антуан знакомит Милену с девочками, Милена улыбается. Антуан ведет машину, Милена смотрит карту. Антуан предлагает заехать куда-нибудь перекусить, Милена выбирает ресторан. Антуан снимает квартиру. Комната девочек, их комната с Миленой. Он спит с Миленой, а девочки спят в соседней комнате. Утром они завтракают вместе. Все вместе! Антуан идет на рынок с девочками и Миленой. Он бежит по пляжу с девочками и Миленой. Он везет девочек и Милену на сельский праздник. Покупает Милене и девочкам сладкую вату. Слова сплетались в бесконечный припев «девочки и Милена, Антуан и Милена». Она набрала побольше воздуху в легкие и заорала: «Дружная семейка, вашу мать!». И так удивилась своему крику, что перестала плакать.
В тот день Жозефина поняла, что ее браку конец. Локоть, обтянутый красной тканью, оказался эффективнее, чем все слова, которыми они обменялись с Антуаном. «Конец», — произнесла она, рисуя на листке бумаги треугольник и раскрашивая его ярко-алым цветом. Конец. Финиш.
Она повесила красный треугольник на кухне над тостером, чтобы любоваться им каждое утро.
На следующий день снова погрузилась в свои переводы.
Потом уже, приехав к Ирис в Довиль, она узнала, что Зоэ много плакала тогда в июле. Ей сказала об этом Ирис, а той рассказал Александр — Зоэ доверилась только ему. «Антуан посоветовал им привыкать к Милене, потому что он собирается жить с ней, они затеяли какой-то бизнес… Какой? Никто не знает». Девочки молчали. Жозефина решила умерить свое любопытство и ничего не выспрашивать.
«Неудачно бедняжки вступают в жизнь, — объявила мадам Мать в разговоре с Ирис. — Бог мой, какие горести выпадают на долю детей в наши дни! И еще удивляются, что в обществе все идет кувырком. Раз уж родители не умеют держать себя в руках, чего же ждать от детей?»
Мадам Мать. Жозефина с ней больше не встречалась. С того майского вечера. С той ссоры в гостиной Ирис. Ни звонка. Ни письма. Ничего. Жозефина не то чтобы все время об этом думала, но если видела на улице свою ровесницу, склонившуюся к пожилой женщине и называющую ее «мама», ноги у нее подкашивались и она спешила присесть на скамейку.
Тем не менее, она не собиралась делать первый шаг. Ни об одном слове, сказанном тогда, она не жалела.
Ей даже казалось, что именно эта ссора с матерью дала ей силы для работы. «Когда не врешь, начинаешь верить в себя. В тот день ты не стала врать и вон, смотри, как ты продвинулась!» Это была теория Ширли. Возможно, Ширли права.
Одна. Без Антуана, без матери. Без мужчины.
Недавно в библиотеке она шла по узкому проходу между стеллажами, не заметила идущего навстречу мужчину и, столкнувшись с ним, рассыпала книги, что держала в руках. Он наклонился, помог их собрать. Потом уставился на нее так, что на нее напал дикий смех. Ей пришлось выйти, чтобы успокоиться. Когда зашла обратно, он подмигнул ей с заговорщическим видом. Жозефина почувствовала, как все внутри перевернулось. Она еще долго пыталась вновь поймать его взгляд, но он больше не поднимал головы от своих записей. Когда она в очередной раз посмотрела в его сторону, его уже не было за столом.